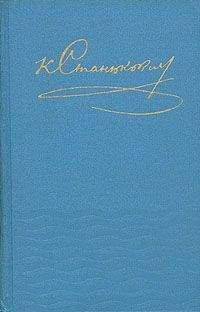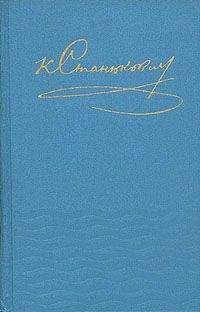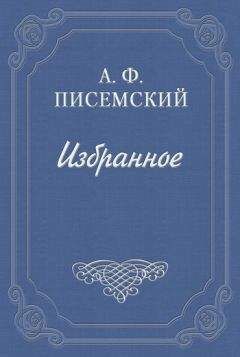Любовь Овсянникова - Вершинные люди
Всем нам хочется казаться значительнее, чем получается на деле. Вот у меня есть двенадцать запатентованных изобретений и много научных статей, причем даже в зарубежных изданиях. Я участвовала в серьезных проектах и не получила должного признания только потому, что вмешалась перестройка. На то время я уже знала, кто и почему помешал и мне с защитой диссертации, и моей Родине с укреплением могущества. Тем не менее я тоже могла бы заявить о своей известности. Все относительно, и это мало кого волнует.
— Фантастику, — с вызовом сказал он, ожидая, видимо, новой иронии.
Мне понравилась его настойчивость. Другой бы стушевался, сник. Ну, считал, что его знают, и решил одарить с барского плеча вниманием. Ну, вышла ошибочка — извините. А тем более говорить о фантастике с какой-то замороченной бабенкой, где-то на занюханной типографии. Какое безрассудство! Но это для обыкновенного человека. А он был психологом, несмотря на то что, казалось бы, неудачно выбрал форму знакомства. Он обладал неким чутьем на людей или информацией обо мне и правильно рассчитал, что будет понятым, не осмеянным и прощенным мною. Осечек у него не было. А методы? Да, иногда он действовал от противного, прибегал к парадоксам, плоским эпатажам — увы. Я это интуитивно почувствовала, потому и реагировала так.
— Да? Не слышала. Очень жаль!
— Почему же жаль? — со спокойной рассудительностью продолжал он. — Фантастику многие не читают.
Я улыбнулась.
— Но я-то как раз читаю. Правда, это было давно.
— Очень давно? — понарошку ехидничал он с уже известной мне теплотой, струящейся во взгляде.
— Сейчас вспомню точно… Последним я читала роман «Час быка» Ефремова, когда он только вышел. Нет, «Час быка» был на третьем курсе, а последним было что-то из Бердника… Или «Волшебный бумеранг» Руденко. Так, — остановилась я и посмотрела в окно: — Это был Корсак «Бегство земли» и сборник «Вирус бессмертия»…
— Да, плохи ваши дела, — он посмотрел на меня, как на совершенно безнадежное создание. — Все это так давно писалось… — Вдруг он вскинул голову: — Вам нравится, как пишет Ефремов? — и снова из него струей била спесь, спесь, спесь, не позволяющая понять, как он сам к нему относится, ко мне, к остальным…
Ему хотелось вывести меня из равновесия, но благодушное настроение прочно завладело мной: я видела этого человека насквозь, и это мне нравилось, и он сам нравился.
— Да, — сказала я, не обращая внимания на его тон, как будто размышляла сама с собой. — Вот и фирму свою назвала «Веда». Помните героиню из «Туманности Андромеды»?
— Это уже обнадеживает, — не удержался он от язвительного тона. И похвастался: — Я считаю себя учеником Ефремова.
— В таком случае, возможно, вас и стоит почитать, — буркнула я, принимаясь за свою работу. — Ну, хватит бездельничать.
— Еще минуту, — сказал он. — Давайте я для начала занесу что-нибудь свое. Почитаете.
— Если вас не затруднит, — я говорила из вежливости.
— Сейчас я здесь часто бываю, так что на днях занесу.
— Договорились.
Он попрощался и ушел.
— Зачем он приходил? — я посмотрела на Валентину, все время молча наблюдавшую этот спектакль.
— Он же писатель, — напомнила она.
— И что?
— А вы — издатель.
— Вы имеете в виду то, что мы делаем на типографии?
— Конечно.
— Это его не может интересовать.
— Почему?
— Потому что мы издаем дешевые детские книги и не платим гонорары.
— Значит, он вам скоро сам скажет, что ему надо было.
Так все и случилось, но это было чуть позже.
От слов, сказанных Валей, меня словно ударило током. Я вспомнила совсем недавнее высокомерие этого человека, и у меня родилось подленькое подозрение, что случившиеся с ним перемены очень увязаны со слухами о моих успехах в бизнесе. Он мог почерпнуть их от своей матери, которая работала рядом с моим мужем (женщина носила другую фамилию, и мы с опозданием узнали, что это его мать). На душе стало холодно и противно. Неловкость гусиной кожей выступила по всему телу. Обуял стыд, но я не понимала за кого больше: за его ли расчетливость и меркантильность; за то ли, что после слов Валентины я дурно подумала о нем; или за то, что поверила ему и так примитивно заглотнула наживку.
Прошло так много лет, а я до сих пор помню, как замерла тогда от неожиданности, от напора его упрямой магии. Но тогда я еще умела избавляться от подавленности и сомнений, поэтому отогнала от себя эти настроения и успокоилась.
Какой смысл живописать это? Любому, кто молод, наверное, известны такие всепоглощающие мгновения. Но я-то была не молода!
Анализируя сейчас те события, я поражаюсь другому. А именно тому, что я никогда не пыталась ни оценить, ни переоценить свое тогдашнее отношение к Ногачеву. Человеку ведь свойственно с течением времени отдавать отчет прожитым годам, пересматривать события жизни, свои привязанности, симпатии, чувства, не обязательно зачеркивая что-то, но хотя бы осмысливая его. У меня же этого не произошло, я сейчас это понимаю — яркие впечатления остались яркими, словно законсервированными тем, что мне было не до них, что у меня были другие заботы. Так те события и вошли в мою память без изменений.
Мгновения легкого, летящего, всеобъемлющего, высшего счастья на самом деле выпадают человеку редко, а многим не выпадают вовсе. И далеко не всем доступно понять их значение, уловить и запечатлеть в себе их приход. Видимо, тогда я пережила именно такие минуты — светлые, необременительные. А позже память обманом инерции поддерживала иллюзию того, что они могут стать ровным, долгим, устоявшимся постоянством.
Книгу он мне, конечно, принес — «Милость динозавров», и я ее прочитала.
***
Спустя несколько дней он приоткрыл дверь моего кабинета и просунул в образовавшуюся щель свою смеющуюся мордочку.
— Это я!
Трудно объяснить, как это происходит, но я попытаюсь. Это психологический парадокс. Представьте: ходит среди людей молодой, активный, творящий человек — умный и живой! — а они его в упор не замечают. Вроде все вокруг толковые да талантливые, а он — обыкновенный. Его учат, как правильно писать, как лучше раскрыть тему, подать эпизод, вырисовать героя. Откровенничают с ним насчет слабых и сильных мест в его произведениях. Умничают, дают советы: что теперь читают люди, для кого надо писать и о чем, как надо моделировать прошлое и будущее. Его уже тошнит от их советов!
При этом, как олицетворенный талант, он о себе уже все предчувствует. Он почти знает, что его имя скоро станет известным, что все прежние советчики будут лебезить перед ним и заискивать, иногда просить его покровительства. Но он ждет признания, которое еще не пришло, не вызрело. Он очень ждет, когда это признание проклюнется хотя бы в одном человеке. Не то признание, когда на худсоветах говорят заготовленные похвалы, привычно и скучно отдают должное упорству и труду, когда людям некуда деваться от сущей правды и надо признать достижения своего коллеги. А то, которое нечаянно долетает из чащобы жизни. Он ждет признания бескорыстного, бесхитростного, спонтанного, идущего из самых недр человеческих. Такое признание похоже на брошенный в горах камешек. После него начинается обвал. И приходит успех!
Слабый и одинокий голос человека, затерянного среди читателей, способен вызвать сели и сдвиги таких масс почитателей таланта, что представить трудно.
Но для этого должны быть горы, эти огромные накопления, напластования, и в них должно быть все напряжено, заряжено взрывом, обвалом и движением. Там должна существовать разность потенциалов такого явления, как реакция на проявленную одаренность. Человек, если он олицетворенный талант, знает, что им уже все это создано, все сотворено. Он уже подготовил условия для успеха, для признания. И он ждет его.
Вот-вот должен прозвучать голос, уподобленный камешку, выпущенному из расслабленных — от удивления, от восторга, от преклонения! — рук.
Когда талант созрел и уверовал в себя, то по всем законам бытия должен найтись этот случайный, но необходимый человек, который преодолеет безвестность таланта и инерцию его незаметности. Все! Он столкнет с точки покоя процесс восхождения звезды. И возникнет слава во всей осиянности!
Вот так встретились тогда и мы. И он знал все о себе! И о моем значении.
Еще на расстоянии, только на подходе чувствовал все, что за варево кипело и созревало во мне.
— Это я! — сказал он игривым тоном.
— Заходите! Хотя видеть вас я еще не готова, — и я выронила камешек из своих ладоней.
Это, конечно, образ. На самом деле я тогда не могла говорить с ним спокойно. Мне все стало понятно в нем и меня прожгло это понимание так, что запредельное ошеломление не позволяло видеть и слышать его вблизи, нужна была дистанция, хотя бы во времени. Наверное, проще было бы поговорить по телефону, но ни он, ни я до этого не додумались. А собственно, о чем говорить? Анализировать, сообщать свое мнение, высказывать какие-то соображения… Кому — ему? Я же не сумасшедшая! Кроме того, видимо, нам надо было посмотреть друг другу в глаза: ему прочитать в моих, что он — настоящий писатель, а мне прочитать в его, что я — тот первый камешек, который вызвал сель.