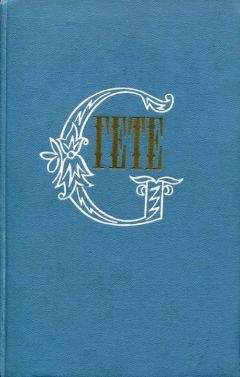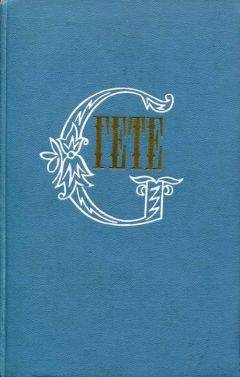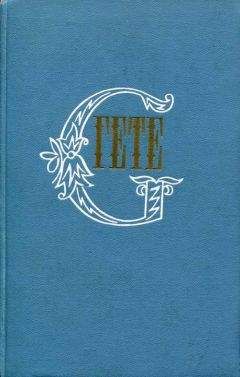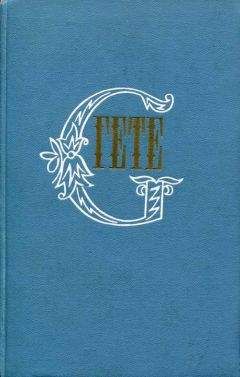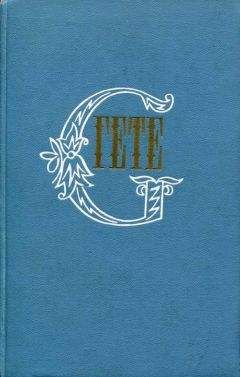Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи
У большого бивачного костра я приметил тяжелую борону, присел на нее и, прикрывая бутылки все тем же плащом, поставил их между зубьями. Немного погодя я извлек бутылку, и на зов увидевших ее людей вкруг костра подошел к ним и предложил распить ее по-компанейски. Каждый сделал по хорошему глотку, последний, видя, что мне осталось слишком мало, отпил самую малость. Спрятав пустую бутылку, я вскоре достал вторую, отпил от нее и предложил то же сделать и новым моим дружкам. Долго упрашивать себя они не заставили, не видя в том ничего особенного. Но когда я достал еще и третью, все громко закричали: «Да вы же колдун, волшебник!» И то сказать, в нашем безрадостном житье-бытье моя шутка всем пришлась по сердцу.
Среди всех сидящих у костра, чьи лица и фигуры отчетливо выступали из полумрака при вспышках пламени, я заметил пожилого человека, показавшегося мне знакомым. Узнав от меня, кто я и откуда, он немало удивился тому, что мы здесь вторично свиделись. То был маркиз де Бомбель, кому я, тому назад два года, имел честь засвидетельствовать свое почтение в Венеции, где я пристал к свите нашей герцогини Амалии. Французский посланник приложил все старания, чтобы сделать наивозможно приятным пребывание нашей достойнейшей государыни в этом городе. Взаимное выражение радости по поводу нашей столь неожиданной встречи и общность давних воспоминании, казалось, должны были бы пролить луч света в наше мрачное «сегодня». Я вспомнил его роскошный дворец на Большом канале, вспомнил, как мы подплыли к нему на гондолах и с какими почестями он нас встретил и принимал в своем палаццо. Он устраивал для нас прелестные праздники, как раз во вкусе нашей государыни, любившей, чтобы природа и искусство, веселье и благопристойность непринужденно вступали в тесный союз друг с другом, тем самым доставляя как герцогине, так и нам, ее свите, утонченно-грациозные наслаждения. «Благодаря вашим широким связям, — сказал я, — мы приобщились и к таким усладам, к каковым чужеземцы обычно доступа не имеют».
Как же я был удивлен, когда в ответ на речь, которой я думал его порадовать и которую заключил искренним славословием в честь маркиза, мне пришлось от него услышать только скорбное восклицание: «Не будем говорить об этом! Те времена отошли от меня так далеко, да и тогда, когда я с веселой улыбкой общался со своими высокими гостями, червь заботы уж грыз мое сердце. Я сполна предвидел последствия того, что происходило в моем отечестве. Ваша безмятежность восхищала меня, вы не предчувствовали тех опасностей, которых, быть может, не избежать и вам. Я же незаметно готовился к предстоявшим переменам. Вскоре мне пришлось сложить свою почетную должность и расстаться с Венецией, столь любезной моему сердцу, чтобы пуститься в странствие, чреватое всякими бедами, которые и привели меня под конец вот сюда».
Таинственность, какою было обставлено наше сближение с противником, позволяла предполагать, что мы снимемся еще этой ночью. Но уже забрезжило утро и снова стал накрапывать мелкий дождик, а мы все не трогались с места. Продолжили мы свой поход, когда уже совсем рассвело. Так как полк герцога Веймарского шел в авангарде, лейб-эскадрону, возглавлявшему всю колонну, были приданы гусары, будто бы знакомые с этой местностью. Итак, мы продвигались вперед — порою крупною рысью, через поля и холмы без единого деревца или кустика. Аргоннский лес чуть виднелся в едва различимой дали. Дождь бил нам прямо в лицо, набираясь новой силы. И тут мы увидели пересекавшую наш путь красивую тополиную аллею. То было шоссе из Шалона в Сент-Мену — дорога из Парижа в Германию. Нас послали через нее в серую даль непогоды.
Мы видели уже и прежде, что французы расположились на опушке леса и что туда же направляются новые пополнения; Келлерман, только что соединившийся с Дюмурье, примкнул к левому флангу его позиции. Наши офицеры и рядовые горели общим желанием тут же, без промедления, броситься на французов по первому мановению главнокомандующего; об этом, казалось, свидетельствовало и наше стремительное продвижение. Однако позиция, занятая Келлерманом, была почти неприступна. Тут-то и началась канонада, позднее ставшая притчею во языцех, ошеломляющую мощь которой невозможно ни описать, ни даже воскресить воображением в памяти.
Шоссе осталось далеко позади, а мы все так же неукоснительно мчались на запад, как вдруг прискакал адъютант с повелением немедля повернуть назад, — нас-де выдвинули слишком далеко. Новый приказ гласил: надо вторично пересечь шоссе, но уже в обратном направлении, так чтобы правый наш фланг непосредственно примкнул к левой стороне шоссейной дороги. Так мы и сделали, встав на пригорке лицом к хутору Ля-Люн в четверти часа ходу от шоссе. Здесь встретил нас полковой командир, только что поставивший полубатарею на безымянную высоту; нам же он приказал продвигаться вперед под прикрытием полубатареи. По пути мы опознали труп старика-шорника, распростертого на пахотном поле, — первую жертву нынешнего дня. Мы спокойно продвигались вперед, приближаясь к хутору, батарея непрерывно палила.
Но вскоре мы оказались в довольно странном положении. На нас яростно сыпались ядра, а мы никак не могли понять, откуда они берутся. Ведь нас прикрывала наша же батарея, а неприятельские пушки на противоположной гряде холмов были слишком удалены от нас. Я держался впереди, перед фронтом, чуть в стороне, и изумлялся, наблюдая за происходившим: ядра дюжинами падали на землю перед самым эскадроном, но, по счастью, не рикошетировали, а вязли в рыхлой почве. Грязь обдавала людей и лошадей; вороные кони, сдерживаемые опытными кавалеристами, храпели и тяжело дышали. Весь эскадрон, не нарушая строя и не размыкаясь, находился в непрерывном движении. Тут меня словно перенесло в совсем иные времена. В первой шеренге эскадрона знамя колыхалось в руках красивого мальчика, он держал его крепко, но вконец перепуганная лошадь мотала его из стороны в сторону. И в эту минуту миловидное лицо мальчика невольно вызвало в моей памяти образ его еще более красивой матери, и для меня на миг превратились в явь мирные часы, некогда проведенные с нею.
Наконец поступил приказ — отступить без промедления. Все части нашей кавалерии исполнили его точно и хладнокровно. Убита была только одна лошадь из полка Лоттума, хотя мы все, особенно здесь, на крайнем правом фланге, казалось, должны были неминуемо погибнуть.
Выйдя из зоны непостижимого для нас обстрела, мы постепенно освобождались от пережитого потрясения. Загадка разрешилась: дело в том, что наша полубатарея была оттеснена противником и, спустившись с холма в ложбину по другую сторону шоссе, залегла в глубоком овраге, каких в этой местности имелось немало. Мы не заметили ее отхода и полагали, что по-прежнему находимся под ее прикрытием, тогда как ее позицию захватила артиллерия французов: что было задумано нам во спасение, чуть не привело к нашей гибели. В ответ на попреки артиллеристы только ухмылялись и в шутку нас уверяли, что-де внизу, под крышей, им было куда вольготнее.
Но потом, когда случалось видеть воочию, как, выбиваясь из сил, конная артиллерия продиралась по глинистым, вязким холмам, мы невольно спрашивали себя: какого черта мы пустились в эту сомнительную аферу?
Меж тем канонада не умолкала. Келлерман занимал сильную, отлично выбранную позицию возле мельницы близ Вальми; по ней-то и били все снаряды нашей артиллерии. Но вот взлетела на воздух телега с порохом, и все дружно радовались бедствиям, предположительно причиненным врагу этим взрывом. Все мы, стоявшие здесь, под огнем, пока что оставались только зрителями и слушателями. Путеводный знак на Шалонском шоссе указывал путь на Париж.
Итак, столица Франции была позади нас, а от отечества нас отделяло французское войско. Крепкие засовы, что и говорить! — особенно в глазах того, кто вот уже четыре недели беспрерывно возился с картами театра военных действий.
Но мгновенная потребность заявляет о своих правах громче, чем даже непосредственно за нею следующая. Гусары перехватили несколько повозок с хлебом, направлявшихся из Шалона в армию, поставив их вдоль обочины шоссе. Нам казалось невероятным, что мы занимаем позицию между Парижем и Сент-Мену, а в Шалоне никак не могли уразуметь, что немцы движутся с их стороны навстречу французам. Гусары за мелочь уступили нам хлеба, а это были самые вкусные французские булки, — как известно, француза приводит в ужас хотя бы ломтик ржаного хлеба. Я раздал не один каравай своим людям, с условием, что они часть хлеба сохранят для меня на ближайшие дни. Совершил я здесь и другую сделку: один егерь приобрел себе у гусар теплое шерстяное одеяло, я же предложил ему, чтобы он днем держал его у себя, а на три ночи уступал его мне по восемь грошей за ночь. Ему такой договор казался выгодным; одеяло обошлось ему в гульден, а через короткий срок оно возвратится к нему со значительным прибытком. Но это устраивало и меня, ибо мои купленные в Лонгви превосходные одеяла остались в обозе, и теперь, при отсутствии всех удобств, было куда как кстати обзавестись еще и этой покрышкой, помимо плаща.