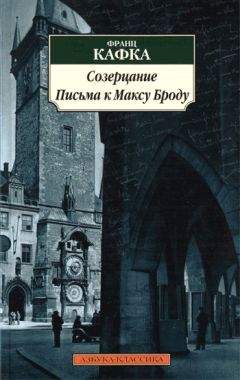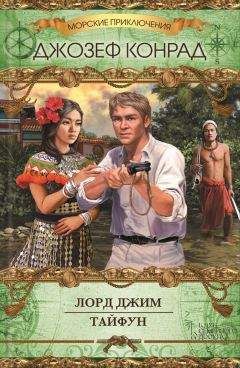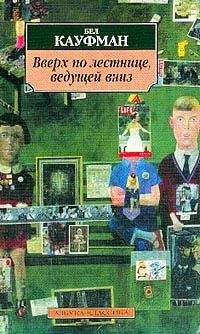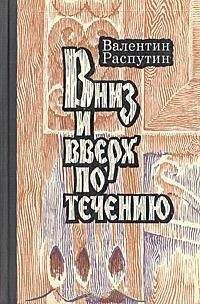Джозеф Конрад - Лорд Джим
Говоря это, он дрожащей рукой пытался стереть пену, выступившую на посиневших губах.
– Двести против одного, двести против одного! Нужно было вселить в них ужас… ужас, говорю вам!
У него самого глаза чуть не вылезли из орбит. Он откинулся назад, ловя воздух костлявыми пальцами, потом снова сел, сгорбленный и волосатый, искоса поглядывая на меня, как человек-зверь из народных сказок; в мучительной агонии он раскрывал рот и не сразу заговорил после этого припадка. Такое зрелище не забывается.
Чтобы привлечь огонь противника и определить, где устроена в кустах вдоль речонки засада, Браун приказал туземцу Соломоновых островов спуститься к лодке и принести весло: так вы послали бы собаку за палкой, брошенной в воду. Этот маневр оказался неудачным: ни одного выстрела не было сделано, и парень вернулся назад.
– Там нет никого, – высказал свое мнение один из шайки.
– Это неестественно, – заметил янки.
Кассим к тому времени ушел, находясь под впечатлением всего происшедшего, довольный, но озабоченный. Продолжая свою предательскую политику, он отправил посла к Даину Уорису, советуя ему готовиться к прибытию судна белых людей, которое, по полученным сведениям, должно вскоре подняться по реке. Он преуменьшил размеры воображаемого корабля и требовал, чтобы Даин Уорис его задержал. Эта двойная игра соответствовала намерению Кассима помешать объединению воинов буги и втянуть их в бой, чтобы ослабить их силы. С другой стороны, он в тот же день уведомил вождей буги, собравшихся в городе, о том, что уговаривает пришельцев удалиться; в форт он обращался с настойчивыми требованиями выдать порох для людей раджи. Много времени прошло с тех пор, как Тунку Алланг имел порох для двух десятков старых мушкетов, покрывавшихся ржавчиной в аудиенц-зале.
Открытые переговоры между холмом и дворцом привели людей в смущение. Стали толковать о том, что пора пристать к той или иной партии. Скоро начнется кровопролитие, и многих ждут великие беды. В тот вечер социальная машина упорядоченной, мирной жизни, когда каждый был уверен в завтрашнем дне, – здание, возведенное руками Джима, – казалось, вот-вот должна была рухнуть и превратиться в развалины, обагренные кровью. Беднейшие жители бежали в джунгли или к верховьям реки. Немало людей состоятельных сочли необходимым засвидетельствовать свое почтение радже. Юноши, состоявшие при радже, грубо издевались над ними. Тунку Алланг, чуть не рехнувшийся от страха и колебаний, или угрюмо молчал, или осыпал их бранью за то, что они явились к нему с пустыми руками; они ушли, страшно испуганные. Только старый Дорамин объединял своих соплеменников и неумолимо придерживался своей тактики. Восседая в высоком кресле за импровизированным частоколом, он низким, заглушенным голосом отдавал приказания, невозмутимый, словно глухой, среди всех тревожных толков.
Спустились сумерки, скрыв труп убитого, который лежал, раскинув руки, как будто пригвожденный к земле; ночь нависла над Патюзаном, заливая землю сверканием бесчисленных миров. Снова в незащищенной части города запылали вдоль единственной улицы огромные костры; отблески света падали на прямые линии крыш, на кусок стены из переплетенных ветвей; кое-где освещена была целая хижина на черных столбах. И весь этот ряд домов в отсветах мигающего пламени, казалось, предательски уползал к верховьям реки, во мрак, сгустившийся в сердце страны. Великое молчание, в котором плясало пламя костров, простерлось до темного подножия холма; но на другом берегу реки, где пылал перед фортом только один костер, раздавался все усиливающийся шум, словно топот толпы, гул многих голосов или грохот бесконечно далекого водопада.
Как признался мне Браун, он сидел, повернувшись спиной к своим людям, и созерцал это зрелище – и вдруг, несмотря на всю его ненависть и несокрушимую веру в себя, его охватило такое чувство, будто он наконец налетел и ударился головой о каменную стену. Если бы его баркас был на воде, Браун, кажется, попытался бы улизнуть, рискнул бы подвергнуться преследованию на реке или умереть голодной смертью на море. Очень сомнительно, удалось ли бы ему скрыться. Как бы то ни было, но этой попытки он не сделал. На секунду у него мелькнула мысль ворваться в город, но он прекрасно понимал, что в конце концов попадет на освещенную улицу, где всех его людей, как собак, пристрелят из домов. Врагов было двести против одного, думал он, а его люди, примостившиеся возле двух куч тлеющей золы, жевали последние бананы и поджаривали последние остатки ямса, полученного благодаря дипломатии Кассима. Возле них сидел и дремал Корнелиус.
Вдруг один из белых вспомнил, что в баркасе остался табак, и решил пойти за ним; его подбодряло, что туземец Соломоновых островов вернулся из этого путешествия невредимым. Остальные стряхнули с себя уныние. Браун, к которому обратились за разрешением, презрительно бросил:
– Ступай, черт с тобой!
Он считал, что нет никакой опасности спуститься в темноте к речонке. Парень перешагнул через ствол дерева и скрылся. Через секунду они услышали, как он влез в баркас, а затем снова выкарабкался на песок.
– Достал! – крикнул он.
За этим последовал выстрел у самого подножия холма.
– Меня ранили! – заорал парень. – Слышите, меня ранили!
И тотчас же на холме стали палить из ружей. Словно маленький вулкан, холм выбрасывал в ночь огонь и дым, а когда Браун и янки проклятиями и тумаками положили конец вызванной паникой стрельбе, с речонки донесся глубокий, протяжный стон; за ним последовала раздирающая сердце жалоба, от которой, словно от яда, кровь стыла в жилах. Затем где-то за речонкой сильный голос отчетливо произнес непонятные слова.
– Пусть никто не стреляет! – крикнул Браун. – Что это значит?
– Слышите, вы, на холме? Слышите? Слышите? – трижды воззвал голос.
Корнелиус перевел и заторопил с ответом.
– Говорите! – закричал Браун. – Мы слушаем!
Тогда человек, где-то у края пустыря, звучным голосом глашатая высокопарно объявил, что между племенем буги, живущим в Патюзане, и белыми людьми на холме и их союзниками не может быть ни разговоров, ни доверия, ни сочувствия, ни мира. Зашелестели кусты; раздался выстрел, сделанный наобум.
– Проклятие! – пробормотал янки, с досадой ударяя о землю прикладом ружья.
Корнелиус перевел. Раненый, лежавший у подножия, выкрикнул два раза. – Перенесите меня на холм! Поднимите меня! – и стал жалобно стонать. Пока он спускался по темному склону, а затем возился на дне баркаса, он не подвергался опасности. Найдя табак, он, видимо, обрадовался, забыл обо всем и, вскочив на борт белого баркаса, лежавшего высоко на сухом берегу, выставил себя напоказ; речонка в этом месте имела не больше семи ярдов в ширину, и случилось так, что в этот момент на другом берегу притаился в кустах человек.
Это был буги из Тондано, совсем недавно приехавший в Патюзан, родственник человека, застреленного в тот день. Удачный выстрел из дальнобойного ружья и в самом деле устрашил жителей поселка. Человек, считавший себя в безопасности, был убит на глазах у своих друзей, с улыбкой на губах упал на землю, и такая жестокость пробудила в них горькую злобу. Родственник убитого Си Лапа находился в то время с Дорамином за частоколом на расстоянии нескольких саженей, не больше. Вы, знакомый с этим народом, должны согласиться, что парень проявил необычайное мужество, вызвавшись отнести – один, в темноте – весть пришельцам на холме. Ползком пробравшись через открытый пустырь, он свернул налево и очутился как раз против лодки. Он вздрогнул, услыхав крик человека, отправившегося за табаком. Присев, он вскинул ружье на плечо, и, когда тот выпрямился, спустил курок и всадил бедняге три разрывных пули в живот. Затем, припав к земле, он прикинулся мертвым, а град свинцовых пуль со свистом прорезал кусты по правую руку от него; после этого он, согнувшись вдвое и все время держась под прикрытием, произнес свою речь. Выкрикнув последнее слово, он отскочил в сторону, снова припал на секунду к земле, и, целый и невредимый, вернулся к домам, завоевав в ту ночь такую славу, что и при детях его она не угаснет.
А на холме жалкая банда следила, как угасали две маленькие кучки золы. Понурив головы, сжав губы, с опущенными глазами, люди сидели на земле, прислушиваясь к стонам товарища внизу. Он был сильный человек и мучился перед смертью; громкие болезненные его стоны постепенно замирали. Иногда он вскрикивал, а потом, после паузы, снова начинал бормотать в бреду длинные и непонятные жалобы. Ни на секунду он не умолкал.
– Что толку? – невозмутимо заметил Браун, увидев, что янки, бормоча проклятия, собирается спуститься с холма.
– Ну, ладно, – согласился дезертир, неохотно возвращаясь. – Раненому не поможешь. Но его крики заставят остальных призадуматься, капитан.
– Воды! – крикнул раненый удивительно громко и отчетливо, потом снова застонал.