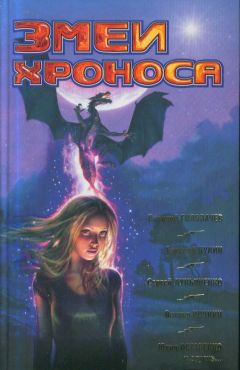Борис Житков - Виктор Вавич
«Если так вот все делать, и двоек никогда не будет, все пойдет, как в книжке».
Коля стал представлять, как он будет высиживать урок за уроком, пряменько на парте. Первый русский, второй латинский, потом арифметика. И вдруг вспомнил, что нынче пятнадцатое, что нынче «письменный ответ» по арифметике. Тихо будет перед началом, и только будут шелестеть листы: отдельные белые листы будет раздавать дежурный, как для приговора. Одни только первые ученики будут радоваться, назло всем радоваться. Потом все без дыхания будут сидеть, ждать, и учитель ясно и строго прочтет задачу. Какую-нибудь со спиртом в 60 и в 38 как-нибудь там градусов смешано, потом как-нибудь продано особенно. Томиться, мучиться над белой бумагой и ждать, до самого безнадежного конца задыхаться и ждать помощи, и все равно, как ни сиди прямо или еще что, ничто, ничто не поможет, и потом крупная двойка красным карандашом на листе. И мамулинька скажет: ты видишь, что дома делается, и тебе все равно? Двойки приносишь? Совсем убить меня хочешь? Нет, даже не скажет убить, а таким горьким, последним голосом скажет.
И Коля уж давно сбился с ровной походки. Он вдруг свернул налево, заложил большой палец за лямку ранца и деловым, быстрым шагом двинул вниз по улице. Он шел, запыхавшись, почти бежал, завернул еще за угол и по мощеному спуску пустил под откос. Из утреннего тихого города он сразу попал в гущу подвод, в толчею народа. Отстегнул ранец, взял под мышку. Ломовые нахлестывали лошадей, лошади скользили, спотыкались, тужились на подъеме. На секунду Коля подумал вернуться назад, в город, в гимназию, еще было время, но сами ноги спешили унести дальше, дальше, чтоб уж не было возврата, чтоб не было времени вернуться. Коля даже расстегнул шинель и бежал вниз по спуску.
— Скакай, подвезу! — крикнул ломовой с порожней подводы. Коля на миг задумался: «Это уж совсем конец!» А ноги уже догоняли подводу, и Коля вскочил.
— Опоздал? — орал ему возчик.
Коля мотал головой, что да. Его подкидывало, прыгал ранец, и Коля без духа держался за дроги. Еще время не ушло, еще до тошноты щемило внутри. В конце спуска подводы сгрудились, ломовой осадил. Коля спрыгнул и свернул в тихий проулок. Здесь в проулке стояла грязь, спокойная и хмурая. Мокрые кирпичные стены без окон шли по бокам. Разбитая бутылка торчала из грязи. Грохот подвод сразу показался далеким. Коля жадно зашагал в проулок. Уж никак здесь не встретишь педагога. А то рассказывал товарищ: тоже вот так «казну правил», и вдруг подходит — пальто штатское, котелок. Гимназист, эй, стой! Почему не в классе? Хотел начать врать. А тот: Билет! Давай-ка билет. И видно у него из пальто пуговицы форменные. Да и по голосу слышно — педагог. Пришлось отдать билет. А бежать? Как бежать, когда в билете в правилах так и сказано: имеет право обратиться к содействию городской полиции. И еще сказал педагог проклятый, чтоб немедленно отправлялся в гимназию, а он по телефону справится, явился ли и когда. А в билете все сказано, какой гимназии, какого класса, имя, фамилия. Товарищ забоялся в гимназию идти, прошлялся где-то до двух часов и пошел домой будто из гимназии. А на следующий день, как пришел в гимназию, на втором уроке вдруг классный надзиратель просунулся в дверь и сказал учителю: «Извините, — говорит, — тут к директору требуют», — и поманил пальчиком этого товарища. Он, красный, встал, и весь класс на него смотрел, он шел и обдергивал куртку. Потом рассказывал, что пришел к директору, а там уж его мать вызвали, она вся в слезах, а директор стал орать, что таких не надо, умникам тут не место, вон выкинет в две минуты, прямо отсюда, и «марш домой и носу чтоб его тут не было», и что мама его на коленки бросилась — отца у него нет — и плакала и молила, а директор все орал и маме его грозил пальцем. И Коле представилось, что, если его мамочке, мулиньке его, вдруг так будет; и Коля от мысли этой побежал вперед по переулку.
«Я б тогда не знал что, зарезался бы, так домой не пошел бы, а зарезался. И убил бы директора, раньше бы убил директора. Достал бы пистолет, а потом сам зарезался бы. А его бы уж, проклятого! Прямо бы в рот выстрелил». И Коля не замечал, как до полколена месил грязь. Переулок кончился. Дальше — откос, поросший никлой осенней травой, почерневшей, мокрой. Коля карабкался по откосу, цеплялся рукой за землю. Стал брызгать дождь, неровный, злой, будто кто горстью загребал и бросал Коле в лицо. Теперь все равно, кто хочет, все может делать ему: собака нападет — уж молчи и за камень не хватайся; или мальчишки пристанут. Коля перелез через барьерчик, через голые кусты, ��ошел по мокрой дорожке парка. Он забрался вглубь, где круглая площадка огорожена кустами, запрятал ранец в кусты. Сел на мокрую скамью, огляделся — никого! Сдернул фуражку и дрожащей быстрой рукой отцепил с околыша гимназический герб. Как разжалованная, арестантским, уголовным глазом глянула фуражка. Теперь не гимназист. Скажу: «Выгнали из гимназии». Какое кому дело, просто мальчик! Коле видны были внизу под откосом часы на башне. Было половина девятого, и сейчас кончилась в гимназии молитва и начинается первый урок. И Коля решил, что будет сидеть на этой скамейке, вот тут на дожде, до самых двух часов и не шевельнется. И чем хуже, чем мучительнее сидеть, тем лучше. И Бог видит, какой я несчастный, и что вовсе не для радости я здесь сижу, и никто пусть не понимает, все ведь скажут, что мерзавец и прохвост.
По красным прутьям кустов ползли капли и в тишине громко падали на палый лист.
«Им хорошо, — думал Коля, — просто стой себе и никто, никто им ничего не скажет: стой, и всегда прав…»
Лужица на дорожке, как грустный глаз, отражала черные ветки и серое небо. «А вдруг побежать сейчас домой, — подумал Коля, — бежать всю дорогу без передышки бегом, прибежать к мулиньке и сказать, сказать, все, как было?» И тут вспомнил утреннее мамино лицо — в доме такое, а ты вон что? И папа дома, наверное, проснулся — и ничего, ничего не выйдет. Коля не мог сидеть, он встал и стал ходить вокруг площадки. До двух часов буду так ходить. Если б можно было рассказать кому-нибудь, а то ведь все только выругают. Самое легкое ругать. А Бог, наверно, все до чуточки знает, — и Коля взглянул на небо. Неба никакого не было: сплошная, мутная белизна стояла над деревьями и из нее капали редкие капли, как с потолка бани. А записку от родителей, почему не был, — это я и завтра не пойду; скажу маме, что голова страшно болит, а потом попрошу записку и буду маме подсказывать, как писать, что было вообще: не мог посещать гимназию по случаю сильной головной боли, а чтоб когда именно, не было сказано, и сойдет. Сойдет наверно, Бог непременно даст, чтоб сошло. Коля вздохнул и медленно перекрестился, с болью прижимая мокрые пальцы колбу. Вдруг голос:
— Коля!
Коля дернулся головой и, приоткрыв рот, глядел и не мог сразу узнать: в трех шагах поверх кустов смотрел на него улыбаясь высокий человек.
— Коля! Ты что ж тут делаешь? Без герба?
Башкин прямо через кусты, без дорожки продирался к Коле.
А вы?
КОЛЯ скорей спрятал руку, которой крестился, в карман, отвернул вбок голову и в сторону, прочь от Башкина, криво улыбался и говорил все:
— Здрассте… здрассте…
А Башкин уже шлепал калошами рядом и громко говорил смеющимся голосом:
— Что ж ты, не узнаешь? Я же знаю, что казну правишь. Правда, ведь казну правишь? — И положил руку на все плечо и наклонился и лезет в лицо заглянуть. И если сейчас скажет, что видел, как крестился, то сейчас же надо бежать вон, куда попало, через кусты, под откос со всей силы. — Коля, да милый мой, — говорил Башкин и совсем наклонился к уху, — да ведь я сам казну справлял. Когда уж в восьмом классе даже был. Ей-богу. Что ж такое? Я не скажу, честное тебе слово даю, не скажу, — весело говорил Башкин, — вот провались я в эту лужу с головой. Идем на скамейку сядем, — и Башкин совсем как товарищ тянул Колю за рукав к скамейке. — Садись, дружище. Я сейчас тоже, знаешь, казну правлю. Верно тебе говорю.
Коля взглянул на Башкина.
— Нет, верное слово, казну… Я, может быть, тебе расскажу, как. А ты чего сегодня испугался? Латинского?
Башкин сидел совсем рядом и сделал заботливое, серьезное лицо и старался заглянуть Коле под спущенный козырек.
— Латинский я прямо как русский.
— Так чего же? Ну, значит, письменный ответ сегодня? Да? Письменный? Я угадал, конечно. По арифметике? Да? Я помню, я тоже так из-за арифметики сидел… все пять часов на морозе… в будочке в одной. До сих пор помню. Нет, в самом деле. В сто раз хуже, чем в классе. Верно?
Коля молчал и глядел в лужицу перед собой.
— Слушай, Коля, — Башкин просящим голосом заговорил, — слушай, тут же тоска, тут же вешаться только можно в такую погоду, предать праведника и повесить вот на этом мокром суку. Пойдем, знаешь, сейчас ко мне, и я тебе по арифметике все объясню. И потом будешь ко мне приходить. Я ведь знаю, папа платить не может теперь, ну, ты будешь говорить, что ко мне в гости. Я сам зайду и попрошу, чтоб тебя пускали ко мне в гости. Почему же? Как товарищи.