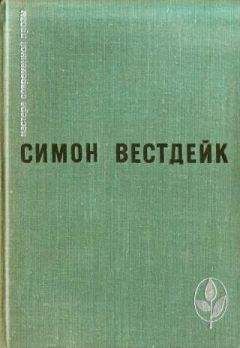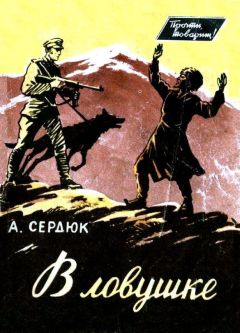Симон Вестдейк - Исчезновение часовых дел мастера
Наконец два дня спустя, опять утром, он увидел то, в чем хотел убедиться. В этот час, во время уборки комнат, он пробрался в комнату для прислуги в передней части дома, потому что решил не прекращать наблюдения ни на один день. Сначала комнаты студентов показались пустыми — его дочери еще не было, все валялось в полном беспорядке, и его раздражала эта вызывающая небрежность, которая, казалось, не имела иной цели, кроме как раздражать других, менее небрежных людей. Вдруг он услышал позади себя шепот. Он пытался вначале не замечать его, решив заглянуть сначала в две другие комнаты; наконец он счел за лучшее направиться спиной туда, откуда доносился шепот, и затем внезапно обернуться. Последовали неописуемые минуты. С очень близкого расстояния, с такого расстояния, на какое он раньше не осмеливался приблизиться ни к одному человеческому существу, он смотрел в чудовищном самоистязании на студента и девушку, которые сидели в уголке старой кушетки, прижавшись друг к другу. Не имея другого желания, кроме как смотреть, видеть — все в этой противоестественной ситуации, особенно близкое расстояние, заключало в себе что-то безумное, словно он сидел, уткнувшись носом в картину, — он стал свидетелем любовной игры, которая для них двоих могла быть и новой, но которая тем не менее быстро привела бы к непоправимому концу. Студент, во всяком случае, целовался так, будто от этого зависела его жизнь. Девушка прильнула к нему, отстранилась. На полминуты она погрузилась в тысячелетний сон из сказки, умирая от нежности, одиночества и любви. Студент сказал, что она мила, на что она, сняв очки, реагировала бурно и необузданно, а студент взглянул на окно, словно желая опустить шторы. И на все это смотрел отец с таким ощущением, будто его тело, хотя и невидимое, начало заживо разлагаться. Потому что это была смерть — и он ее познал, — смерть прежних, долго лелеемых чувств, исчезновение всякой опоры в жизни, и не потому, что эта тяжело дышащая кривляка была его родной дочерью, которую он обязан оберегать, а потому, что самой сокровенной частью своего существа он желал этого свершения. Должен был наступить какой-то конец, конец мучительному сомнению и заботе о других, зримых, которые сами за себя должны были решать свои дела. Чем непоправимее будет этот конец, тем лучше, чем беспомощнее он себя чувствовал, тем скорее он мог осознать, что это конец…
Наконец Альбертус Коканж вышел из своего гипнотического транса. Это не должно, это не может дольше продолжаться. Он обязан вмешаться, это его долг отца. Он поспешил к кушетке, которая скрипела все более подозрительно, перегнулся над парочкой, стараясь никого не коснуться, и на стене, оклеенной обоями, написал дрожащими, но гигантскими буквами: «Хильда, будь осторожна! Твой отец». Мечась по комнате, он заполнял конспекты студентов и их разбросанные письма теми же предостережениями: «Хильда, не причиняй мне боли! Твой отец»— или: «Он сделает тебя несчастной, Хильда. Подумай о матери!» Потом он исписал каракулями две стены, но ничто не помогало. Как пойманная птица, он метался вокруг, обуреваемый безрассудными идеями, которые были столь же смехотворны, как и бесполезны: например, написать на их руках, на юбке дочери, броситься на них, пройти сквозь них в надежде, что они хоть что-нибудь заметят. Но они продолжали целоваться где-то на уровне его печени. Он был бессилен. В припадке ярости и отчаяния он бил рукой по спинке стула, пробивая ее насквозь. Неужели этот мальчишка наберется наглости и совратит девочку на его глазах? Боже мой, что ему делать? И тогда он понял, в чем заключается единственный шанс для него и его дочери. Он должен попытаться стать снова видимым! Любой ценой. В качестве зримого отца он, неся месть, ворвется в комнату и вышвырнет вон этого подлого мальчишку. Это должно получиться. Как он стал невидимым из-за руки, часов с бумагой внутри и квитанции, так он сможет достичь противоположного с помощью тех же самых предметов, которые все еще, вероятно, находятся в мастерской. Он хорошо помнил, куда его жена забросила бумагу и квитанцию, на которых, наверное, были записаны формулы и указания для тех невидимых часовщиков, которые были сыты по горло своим невидимым состоянием. Вид мастерской будет, вероятно, ему ужасен, встреча с ассистентом неприятна; Но ради своего ребенка он это сделает. Не колеблясь более, он рассчитал место в полу, через которое он должен пройти, расслабился и почувствовал, болтая ногами уже в мастерской, как «голос древесного жучка» поднимался все выше и выше, как вода по ногам купальщика. Он закрыл глаза, чтобы избавить себя от зрелища кушетки. Так, с закрытыми глазами, они очутился в мастерской мягко приземлился на ноги и тотчас же напряг тело, чтобы предупредить дальнейшее падение. Он открыл глаза.
Да, он был в мастерской, которая его так долго страшила и которая так мало изменилась. Ряды стенных часов с их глупыми циферблатами и футлярами красного дерева продолжали тикать как безумные. Кукушка, которая, если за ней не уследить, исчезла бы в окружающей природе и птичьем царстве. Ручные часы, которые, будучи меньшими по размеру, показывают не меньшее время, а то же самое, что достойно всяческого удивления. Часы в витрине. Широкий луч солнечного света, падающий на часовые аксессуары. Одним взглядом принял и запечатлел в себе все это Альбертус Коканж и затем одним решительным движением повернулся к стойке. За ней стоял человек в длинном сером халате и чинил часы, слегка наклонившись вперед; у него были неторопливые, умелые руки и словно из камня вырубленные складки между бровями, складки, которые походили на цифру XII циферблата и которые сразу объяснили Коканжу, кем этот человек не был и кем он никогда не смог бы стать, хоть господь бог и перемешал между собой все профессии, а мастеров с подмастерьями. Этот человек ни в коем случае не был тем ассистентом, которого он ожидал встретить здесь, в мастерской. Почему он не был ассистентом? Потому что это был он сам — Альбертус Коканж. И действительно, невидимый Альбертус Коканж, который только что свалился из комнаты студента, смотрелся как бы в собственное изображение. С той лишь разницей, что человек, стоящий перед ним, имел не только преимущество в видимости, но и работал, и ничто не указывало в нем на то безмерное удивление, жертвой которого стал он же сам, незримый. Они были неотделимы друг от друга, но в то же время вели себя по-разному. Внимательно — с вниманием ребенка, увидевшего что-либо впервые, — смотрел он, как он же сам, или его двойник, или настоящий Альбертус Коканж, или как еще можно было назвать эту фигуру за стойкой подхватил крошечным пинцетом колесико, подержал его против света и затем с крайней серьезностью продул его, один зубчик за другим. Прежде это было его работой. Этот рот был его ртом, этот нос был его носом, а усики, присыпанные солью седины, напоминали ему в последние годы о приближающейся старости. Складки на щеках, бородавка слева на лбу — все было на месте. Не было сомнений: это был живой — хотя и с признаками отсутствия бытия, — это был живой, согласно бюргерским установлениям, часовых дел мастер Альбертус Коканж, который стоял вот тут, перед ним, и который все эти месяцы стоял и жил здесь, в часовой мастерской, неизменный, как всегда, который все эти месяцы совершал движения, приличествовавшие его профессии, и который не перестанет совершать их до самой своей смерти.
Чувство благоговения охватило его, когда он очень медленно приблизился к стойке, почти чувство сострадания. Ему захотелось отдать ему воинские почести. Впервые он понял все в своей жизни и то, почему он должен был претерпеть это изменение — прежде всего это новое изменение, когда он, уже невидимый, стал еще более невидимым, и на этот раз не магией химического превращения, а очищением, внезапным и мгновенным. Как глубоко был погружен в себя этот человек, как он вкладывал всю свою душу в эти ручные часы, в каждое колесико, каждый зубчик этого колесика и даже в пыль, которая осела на зубчик! Недалекий, оскудевший жизнью человек. Этот Альбертус Коканж, который останется здесь один и с которым он должен распрощаться.
Ибо таково было решение, которое он принял: ни минуты больше, ни одной минуты, какие бы часы ни отсчитывали эту минуту, не останется он в доме. Здесь ему было больше нечего делать.
Он освободился от всего. Так, как тикают часы дома, они, слава богу, не тикают нигде, потому что нигде в другом месте над ним не тяготеют вещи так, как здесь, — смехотворные вещи, смехотворные обязанности и заботы, от которых ни один человек в мире не в состоянии освободиться, обязанности, которые лучше всего передать какой-нибудь подставной фигуре, похожей марионетке.
Не утратив, однако, прежнего чувства благоговения и сострадания, он подошел вплотную к стойке, нашел перед глазами своего двойника выписанный счет, вытянул палец и написал: «Менеер, вашу дочь соблазняют». Ему стоило некоторого усилия представить себе, что это предостережение относится к младшей дочери Альбертуса Коканжа, совершенно погрузившегося в починку своих часов. Была ли это младшая дочь? Да, в этом не было нужды сомневаться — это была некая младшая дочь некоего Альбертуса Коканжа. Он разбежался, пролетел через стекло витрины, затем еще через одно, потом сквозь зеленые ветви деревьев и растворился в воздушном пространстве.