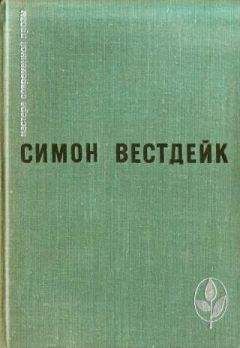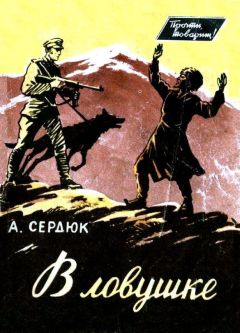Симон Вестдейк - Исчезновение часовых дел мастера
Но был у него заместитель или все-таки нет? Случалось, что дочери или жена употребляли выражения вроде «его там нет», или «он еще не пришел», или «напомни ему об этом, ладно?». Коканж думал сначала, что это относится к одному из жильцов — длинному студенту с тонко очерченным маленьким носом, пользовавшемуся наибольшим расположением женщин, несмотря на свою смехотворную требовательность, которую едва можно было удовлетворить беготней с утра до вечера. Но затем он услышал несколько замечаний о сломанной пружине, стеклянном колпаке для часов, которые отмели последние сомнения. И тут в первый раз было названо его собственное имя, вероятно, речь шла — он вошел в комнату слишком поздно и не слышал начала фразы — о том, как такая работа выполнялась раньше, при нем. Судя по всему, его забыли очень скоро, это и понятно: его отношения с женой были в последнее время более чем прохладными, а девчонки превратились в совершеннейших вертушек. Да и все случившееся — в дело, несомненно, вмешалась и полиция — произвело, надо думать, слишком тягостное впечатление на всех. Вскоре он воочию увидел своего преемника, правда в полутьме, так что он мог только об этом догадываться, но вряд ли это был кто-нибудь другой. Странная была встреча; он испытывал скорее любопытство, чем подозрительность, ходя поведение этого человека — а именно его упорное желание оставаться в мастерской — вызывало как раз подозрение. В мастерской он мог избежать любого контроля, мог безнаказанно бездельничать, присваивать дорогие вещи, утаивать деньги. Справедливости ради следует, однако, сказать, что сам невидимка не испытывал никакого желания выступить в роли надсмотрщика, и не только потому, что мастерская все еще была для него средоточием адских ужасов — местом, где часовщиков, так сказать, стирали с лица земли, — но и потому, что в случае обнаружения обмана он мало что мог изменить, самое большее — сообщить в письменном виде о своем открытии, пребывая затем в неведении, посчитаются ли вообще с его сообщением. Но все-таки он не думал, что мастерская находится в плохих руках.
Было уже поздно, после одиннадцати, когда он увидел темную фигуру с опущенной головой, поднимающуюся по «служебной» лестнице. Электрические лампочки в коридоре были маломощные, а одна из них к тому же перегорела. Сам он стоял на лестнице перед дверью, ведущей в мансарду, куда он попал несколько необычным путем — между потолочными балками общей комнаты, помогая себе движениями пловца, вверх наискосок; он знал по опыту, что этой дорогой он попадет точно к двери, и несколько вечеров подряд забавлялся тем, что пролетал перед самым лицом дочерей, отправляющихся спать, пользуясь случаем, что жена в это время оставалась внизу, и бросал последний взгляд на их рожицы и прощальный, никому не нужный поцелуй. На этот раз он запоздал: девочки были уже в своей спальне, куда он не хотел вторгаться, потому что они сразу же начинали готовиться ко сну; поднимался ураган рук, ног, белых одежд, что-то снималось и одевалось через голову, и наконец они, оживленно болтая, бросались в постели, как в те дни, когда они были еще маленькими девочками и отец мог безвозбранно присутствовать при этом. Так стоял он на лестнице и смотрел на дверь, ведущую в спальню жены; когда-то она была и его спальней, да и теперь еще принадлежала бы ему, но он не придавал этому значения; вдруг он услышал скрип лестницы и медленные мужские шаги. Показался ассистент; шаркая ногами, засунув руки в карманы, по всей видимости погруженный в глубокое размышление, он свернул в коридор; похоже, он не принадлежал к числу разговорчивых людей, был немолод, ненамного ниже его самого ростом и в одежде, которая показалась удивительно знакомой. Словно собираясь кого-то окликнуть, ассистент посмотрел вниз через плечо, затем направился к двери ближайшей спальни, открыл ее и вошел в комнату, оставив дверь полуоткрытой. Зажегся свет. Послышался вздох и тихое посвистывание. Заскрипел стул. Все это казалось до чрезвычайности нереальным, даже устрашающим. Что собирался делать там этот мужчина? Может быть, в спальне были спрятаны драгоценности или деньги? Коканж не осмелился заглянуть в комнату. Но тут его внимание захватило продолжение все той же неожиданной сцены. Наверх поднялась жена. Когда она уже стояла в коридоре, из комнат студентов раздался громкий звон чашек; она прислушалась к звукам, доносящимся из смежной двери, механическим движением руки пытаясь расстегнуть кнопки на юбке; Коканж угадал скрытую борьбу между толстыми пальцами, грубыми ногтями и миниатюрными кнопками, которые более приличествовали часовому механизму, чем юбке женщины. Он угадал еще больше, когда увидел, как она решительно направилась к двери, из которой вырывался яркий свет. Он наконец угадал все, когда несколькими минутами позже остановился перед закрытой дверью. Он подавил желание заглянуть внутрь и отправился в мансарду, где было его место.
Все это не очень его огорчило. Может быть, они были и правы: матримониальные намерения ассистента могли только увеличить его преданность, а жена была слишком благоразумна, чтобы не воспользоваться этим. Единственное, что его возмущало, — это то, что они пренебрегли близостью комнаты девочек. Для Коканжа это происшествие — которое, впрочем, не повторялось, словно ассистент вместе с работой в мастерской перенял также ритм супружеской жизни своего предшественника, — имело то преимущество, что он стал чувствовать себя во много раз менее виновным по отношению к жене и всей семье. Своим исчезновением он нанес им ущерб, по крайней мере мог нанести ущерб; теперь они были в расчете. То, что на его преемнике был один из его костюмов — даже его лучший костюм, — говорило только о том, что его участие в деле покоилось не на прочной финансовой основе; это свидетельствовало также о присутствии определенных чувств у жены, которая никогда не отличалась особенной добротой, тем более по отношению к новичку. «Можно было бы, конечно, ожидать большего почтения к моей одежде», — подумал он с горечью, но вскоре утешился мыслью, что это и для девочек было лучшим выходом. Накануне свадьбы он решил навсегда покинуть дом.
Альбертус Коканж больше не видел ассистента, который снова спал каждую ночь в мастерской, и, так как костюм это было единственное, что он как-то мог связать с ним, у него не составилось четкого представления об этом человеке. К тому же его все больше начали занимать события, происходившие в общей комнате, и эти события стали значить для него больше, чем процветание мастерской или нарушение супружеской верности. Его уединение в углу комнаты имело все-таки не те причины, которые он воображал вначале. Не для удобства наблюдения держался он в стороне, а потому, что его ничто так не пугало, как тесный контакт с людьми, особенно с этими, его кровью и плотью. Оказавшись поблизости от них, он не смог бы удержаться от соблазна и не воспользоваться однажды своими новыми способностями: пройти сквозь их тела или попросту упасть на них, что по отношению к отцу казалось ему ужасным, по отношению к дочерям неприличным, а по отношению к жене противным, хотя разумом он понимал, что это совмещение видимого с невидимым они так же мало заметили бы, как и он сам. Но его чувство запрещало ему приближаться к ним ближе чем на четыре шага. Если массивных тел следовало избегать, чтобы болезненно не столкнуться с ними, бездны человеческого тела следовало избегать по противоположным причинам. По мнению Коканжа, у которого теперь оказалось гораздо больше щепетильности, чем раньше, когда он принадлежал к миру видимых, было также неприлично смотреть человеку в глаза пристально и с близкого расстояния; вероятно, именно во избежание этого соблазна он старался как можно меньше находиться в общей комнате, и, собрав некоторые сведения, или новости, или то, что он принимал за таковые, он поспешно удалялся прочь. Если падение в человеческие бездны могло оказаться всего лишь результатом неловкости или небрежения законами природы, то пристальный взгляд, впившийся в другой с жадностью, надолго и с такого близкого расстояния, что, казалось, можно было видеть не с помощью своих невидимых, а посредством их видимых глаз, — это уже представляло собой нечто такое, чего он неистово желал и в то же время боялся, как порока, от которого ему никогда не избавиться. Смотреть на человека до тех пор, пока он не будет вынужден ответить взглядом и все-таки ничего не увидит! И затем подумать: они меня не видят, они не видят ничего, они тупы и грубы и ничего не чувствуют, есть места, куда они не могут проникнуть даже взглядом, даже в место, столь близкое от них, где нахожусь сейчас я! Это казалось ему вознаграждением за многое; будь его воля, он бы, как пиявка, присосался вглядом к человеку, если бы чувство отрезвления после всего этого не представлялось ему всего ужаснее на свете.
Но как велик был его испуг, больше — ужас, когда он обнаружил, что такие вампироподобные взгляды уже давно практикуются в этом доме! Раньше семейство Коканж регулярно собиралось по вечерам в обществе знакомых для совместного чтения Библии; сам он достаточно хорошо знал Библию и получал бы от этих вечеров удовольствие, если бы не жена, которая в своем тупом невежестве ухватилась за вечерние сходки, чтобы выставлять его в смешном виде и указывать ему на его незнание, что было, впрочем, довольно легко, имея под рукой книгу и следя за каждым словом. Атмосфера апостольских собраний, вольным подражанием которым были эти вечера, превращалась в нелепое подобие урока закона божия в приходской школе. С особым удовольствием жена обрушивала на голову Альбертуса деяния пророков и хронологию событий и, если он ничего не мог ответить, пребывала в отличном настроении до конца вечера. Старый слепой отец был непременным участником этих вечеров, оставаясь вместе со всеми допоздна. Так же все было и сегодня, при появлении Коканжа на этом первом после несчастья благочестивом собрании (кстати, впервые состоявшемся в их доме). Сначала Коканж спустился вниз, чтобы посмотреть, все ли в порядке, удобно ли отцу в его большом кресле и стоит ли подогретое вино перед ним; его интересовало, будут ли говорить о нем гости, но тут его ожидало разочарование. Ассистента в комнате не было; вероятно, он был неверующим, о чем, помимо всего прочего, свидетельствовала и беззастенчивость, с которой он проник в спальню. В девять часов он наведался в комнату во второй раз. Читали Книгу Руфь, и все шло отлично. Жена никому не мешала ни при чтении текста, ни при его комментировании, ни во время импровизированных проповедей, которые мог произнести каждый по своему усмотрению. Он оставался в мансарде до четверти двенадцатого, дожидаясь прихода дочерей, которые ушли куда-то на вечеринку, и прислушиваясь к шуму, доносившемуся снизу, от студентов, которые так же громогласно обсуждали какой-то предмет, только, вероятно, другого свойства. По гулу голосов и хлопанью дверей он определил, что гости уходили, но помедлил еще немного, потому что посчитал по поведению студентов, что дочери как раз в этот момент тоже вернулись домой: раздался шум открываемого окна, оклик сверху. Но если студенты пьяны, они могли набраться бесстыдства и крикнуть что-нибудь вслед уходящим гостям. Нет, девочки не пришли. Все снова стихло. Через некоторое время он спустился вниз в третий раз, охваченный внезапным беспокойством за отца, которого сноха должна была теперь укладывать спать; он был настолько встревожен и охвачен таким нетерпением, что, экономя время, проник в общую комнату сверху вниз и наискосок между двумя балками, откуда ему открылось все то, что происходило в это время в комнате. Друг против друга сидели два человека: его жена за Библией, положив руки на ее края, словно она читала проповедь с кафедры, и вперив свой взгляд в слепые глаза старика, и его отец, который, шаря правой рукой, искал свой стакан вина. Коканж знал, что на подобных вечерах он, чтобы прогнать сонливость, нуждался — или воображал, что нуждался, — в вине. Но едва его рука приближалась к стакану, как женщина перегибалась вперед и отодвигала стакан дальше. Думая, очевидно, что он один в комнате, старик, шамкая губами, снова принимался за поиски. И тут случилось страшное. Женщина медленно поднялась, все еще опираясь руками о стол, и уставилась в слепые глаза с такой бешеной ненавистью, с такой нестерпимой, такой упрямой и самодовольной убежденностью в своей правоте, так уничтожающе, что часовщику, который с бьющимся сердцем стоял подле своего отца и был свидетелем всей этой сцены, показалось, что она в любое мгновение могла бы, перегнувшись через стол, задушить его и не почувствовать при этом ни малейшего угрызения совести или хотя бы страха перед наказанием. Никогда он не предполагал, что она способна на такую ненависть — пусть даже старик и доставлял порядочно хлопот. Далеко перегнувшись через стол, она почти легла толстым животом на Библию, не отводя неподвижных глаз, словно желая, чтобы ее взгляд пронзил насквозь старческую голову и вышел с обратной стороны, в том месте — это было хорошо видно Альбертусу, — где курчавились детские, желтоватого цвета волосы. Большего она не могла сделать. Но тут же она начала корчить гримасы, угрожать губами, зубами и челюстью старику, который что-то несвязно бормотал, искал свой стакан, не находил его и смотрел в пустоту перед собой. Она схватила стакан, поднесла его к губам, чтобы выпить, но и это было только насмешкой, потому что она тотчас же поставила его обратно, прямо около старика, между его руками, в то время как тот продолжал шарить правой рукой то влево, то вправо за стоящим перед ним стаканом.