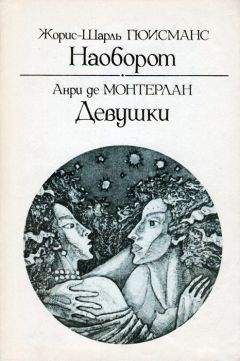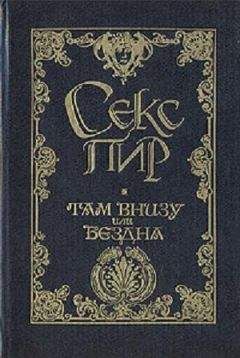Жорис-Карл Гюисманс - Наоборот
Наконец, 5-й, век, Августин, епископ Гиппонский[37]. Августина дез Эссент знал как свои пять пальцев, ведь это был самый почитаемый церковью писатель, основатель христианского богословия и, по мнению католиков, самый высокий арбитр и авторитет. Однако дез Эссент уже никогда больше не брал его в руки, несмотря на то что в "Исповеди" воспевается отвращение к земной жизни, а в трактате "О Граде Божием", этот возвышенный и проникновенный утешитель, обещает взамен земных скорбей небесное ликование. Но нет, дез Эссент еще в пору своих занятий богословием уже сполна насытился его увещеваниями и плачем, его учением о предопределении и благодати, его борьбой с расколом.
С большой охотой дез Эссент листал "Psychomachia" Пруденция[38], аллегорическую поэму, излюбленное чтение средневековья. С удовольствием заглядывал он и в Сидония Аполлинария[39], ибо любил его письма, которые изобиловали остротами, шутками, загадками, архаическим слогом. Дез Эссент частенько перечитывал его панегирики. Похвала языческим божествам у епископа была вычурной, но дез Эссент питал слабость к позерству, к двусмысленности и вообще к тому, как сей искусный мастер ухаживает за механизмом своей поэзии, то смазывая одни его части, то добавляя или убирая другие.
Кроме Сидония обращался он и к панегиристу Меробальду, а также к Седулию[40], автору довольно слабой поэзии и некоторых важных для церковной службы гимнов. Читал дез Эссент и Мария Виктора, сочинившего "Поврежденность нравов", по-поэтически невнятный трактат, где вспыхивала смыслом то одна, то другая строка. Раскрывал ледяной "Евхаристикон" Павлиния Польского. Не забывал Ориентуса, епископа Аухского, автора "Мониторий", писанных дистихом проклятий в адрес женской распущенности и женской красоты, каковая есть погибель народам.
Дез Эссент страстно любил латынь, хотя и разложилась она вконец, и пошла тленом, и распалась на части, сохранив нетленной разве что самую свою малость. Эта малость уцелела, ибо христианские авторы отцедили ее и поместили в питательную среду нового языка.
Но вот настает вторая половина 5-го века, лихолетье, время мировых потрясений. Галлия сожжена варварами. Рим парализован, разграблен вестготами. Римские окраины, и восточная, и западная, истекают кровью и слабеют с каждым днем.
Мир подвержен распаду. Императоров одного за другим убивают. Кровопролитие. По всей Европе не смолкает шум резни — и вдруг чудовищный конский топот перекрывает вопли и стоны. На берегах Дуная появляются тысячи и тысячи всадников на низкорослых лошадях и в звериных шкурах. Страшные татары с большими головами, плоскими носами и безволосыми желтыми лицами в рубцах и шрамах заполонили южные провинции.
Все исчезло в тучах пыли от конских копыт, в дыму пожаров. Настала тьма. Покоренные народы, содрогаясь, смотрели, как несется с громовым грохотом смерч. В Галлию, опустошив Европу, вторглись орды гуннов, и Аэций[41] разгромил их на Каталунских полях. Но жестокой была сеча. Поля наводнились кровью и вспенились, как кровавое море. Двести тысяч трупов перегородили гуннам дорогу. И бешеный поток хлынул в сторону, грозой обрушился на Италию. Разоренные итальянские города запылали, как солома.
Западная империя рухнула под ударами; и без того распадалась она от всеобщих слабоумия и разврата и вот теперь навек испустила дух. Казалось, близок конец света. Края, не тронутые Атиллой, опустошили голод и чума. И на руинах мироздания латынь словно погибла.
Шло время. Варварские наречия стали упорядочиваться, крепнуть, складываться в новые языки. Поддерживаемая церковью латынь выжила в монастырях. Порою ею блистали — но вяло и неярко — поэты: Африкан Драконтий с "Гексамероном", Клавдий Маммерт[42] с литургическими песнопениями, Авитус Венский[43]; мелькали биографы, например Эннодий[44] с жизнеописанием святого Епифания[45], почтенного, проницательного дипломата и внимательного доброго пастыря, или Эвгиппий[46], с рассказом о святом Северине[47], таинственном отшельнике и смиренном аскете, который явился безутешным народам, обезумевшим от страдания и страха, словно ангел милосердия. Наступает черед писателей, подобных Веранию Геводанскому, автору небольшого трактата о воздержании, или Аврелиану с Фарреолом, составителям церковных канонов; и, наконец, историкам, в их числе Ротерий Агдский, автор утраченной "Истории гуннов".
Книг, представляющих позднейшие столетия, было в библиотеке дез Эссента немного. 6-й век не мог не олицетворять Фортунат, епископ из Пуатье[48]. В его "Vexilla regis"[49] и гимны, в ветхие старолатинские мехи которых словно было влито новое пахучее вино церкви, дез Эссент нет-нет да и заглядывал. Помимо Фортуната там еще были Боэций, Григорий Турский[50] и Иорнандезий. Далее, 7-й и 8-й века: тут имелось несколько хроник на варварской латыни Фредегера[51] и Павла Диакона[52] и составленные в алфавитном порядке и построенные на повторении одной и той же рифмы песнопения в честь святого Комгилла, а также сборник Бангора, который дез Эссент изучал время от времени. Но в основном то были агиографии: слово монаха Ионы о святом Колумбане[53], повесть о блаженном Кутберте[54], составленная Бедой Достопочтенным[55] по запискам безымянного монаха из Линдисфарна. Дез Эссент от скуки листал их иногда да перечитывал порой фрагменты житий святой Рустикулы и святой Родогунды[56]. Первого сочинитель был Дефенсорий, монах из Лигюже, второго — простодушная и скромная пуатийская монахиня Бодонивия.
Но еще больше влекли дез Эссента англосаксонские латинские сочинения: трудные для понимания творения Адельма, Татвина, Евсевия, потомков Симфозия[57]; особенно манили его акростихи святого Бонифация — строфы-загадки, разгадка которых содержалась в первых буквах строк.
Писатели последующих эпох дез Эссента уже не так привлекали; к увесистым томам каролингских латинистов, разных Алкуинов[58] и Эгингардов[59], он был в общем равнодушен и вполне довольствовался, из всей латыни 9-го века, хрониками анонима из монастыря св. Галла[60], сочинениями Фрекульфа[61], Региньона да поэмой об осаде Парижа, подписанной Аббо ле Курбе, и, наконец, дидактическим опусом "Хортулус" бенедиктинца Валафрида Страбо, причем, читая главу, которая воспевала тыкву, символ плодородия, дез Эссент так и покатывался со смеху. Изредка снимал он с полки и поэму Эрмольда Черного[62] о Людовике Благочестивом[63] — героическую песню с ее правильными гекзаметрами, латинским булатом сурового и мрачного слога, закаленного в монастырской воде и сверкающего иногда искрой чувства. Порой проглядывал "De viribus herbarum"[64] Мацера Флорида и воистину наслаждался описанием целебных свойств некоторых трав: к примеру, кирказон, прижатый с ломтем говядины к животу беременной, помогает родить младенца непременно мужеского пола; огуречник лекарственный, если окропить им гостиную, веселит гостей; толченый иссоп навсегда излечивает от эпилепсии; укроп, возложенный на грудь женщине, очищает ее воды и облегчает регулы.
Латинское собрание на полках дез Эссента доходило до начала 10-го столетия. Исключение составляли: несколько случайных, разрозненных томов; плюс несколько современных изданий по каббале, медицине, ботанике или книги вообще без даты; плюс отдельные тома патрологии Миня[65], а именно — сборники редких церковных поэм и антология второстепенных латинских поэтов Вернсдорфа; плюс еще Мерсий, учебник классической эротологии Форберга и устав с диаконалиями для духовников. Время от времени дез Эссент сдувал с них пыль, и только. Его библиотека латинских авторов ограничивалась 10-м веком.
В то время были утрачены и меткость, и некая сложная простота латинского языка. Пошло философское и схоластическое пустословие, пошел отсчет средневековой схоластики. Латынь покрылась копотью хроник, летописей, утяжелилась свинцовым грузом картуляриев и потеряла монашескую робкую грацию, а также порой чарующую неуклюжесть, превратив остатки древней поэзии в подобие благочестивой амброзии. Пришел конец всему: и энергичным глаголам, и благоуханным существительным, и витиеватым, на манер украшений из первобытного скифского золота, прилагательным. Больше в библиотеке дез Эссента старых изданий не было. Скачок времени — и эстафета веков прервалась. В свои права вступил век нынешний, и на полках воцарился современный французский язык.