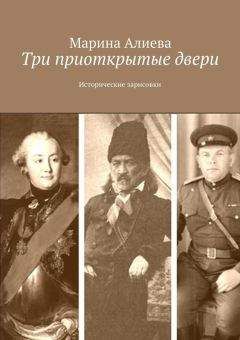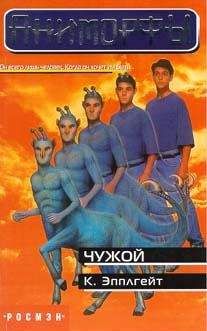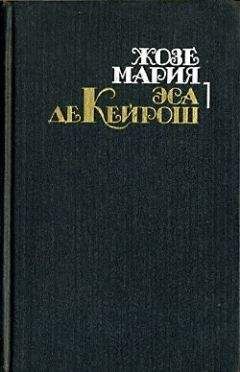Жозе Эса де Кейрош - Семейство Майя
Афонсо встал и теперь возвышался перед сыном, разгневанный и неумолимый, — само олицетворение фамильной чести.
— Ты желаешь продолжать? Я краснею от стыда за тебя.
Педро стал белее платка, зажатого им в руке, и, весь дрожа, закричал, едва сдерживая рыдания:
— Можешь не сомневаться, отец, я все равно женюсь на ней!
И он выбежал из библиотеки, яростно хлопнув дверью. В коридоре он крикнул слугу и громко, чтобы слышал отец, распорядился, чтобы его вещи были перевезены в отель «Европа».
Через два дня в Бенфику явился Виласа и со слезами на глазах рассказал, что мальчик сегодня утром обвенчался с Марией и, как ему сообщил Сержио, управляющий Монфорте, молодые уезжают в Италию.
Афонсо да Майа в это время завтракал за столиком, придвинутым поближе к камину; на камине красовался в японской вазе осенний букет, осыпаясь от сильного жара; возле прибора Педро лежал поэтический альманах «Гриналда», который тот выписывал… Афонсо выслушал управляющего в суровом молчании, продолжая неторопливо развертывать салфетку.
— Вы уже завтракали, Виласа?
Управляющий, изумленный такой невозмутимостью, пробормотал:
— Да, я позавтракал, мой сеньор…
Тогда Афонсо обратился к лакею, указывая на прибор Педро:
— Можешь убрать этот прибор, Тейшейра. И впредь ставь только один прибор… Садитесь, Виласа, садитесь.
Тейшейра, который служил в доме Афонсо недавно, не удивился столь странному приказанию и унес прибор. Виласа сел. Все было тихо и пристойно, как и в прежние утра, когда ему случалось завтракать в Бенфике. Слуга бесшумно двигался по ворсистому ковру; в камине весело играл огонь, отражаясь в полированном серебре посуды; под лучами неяркого зимнего солнца, сиявшего в голубизне неба, искрился на сухих ветвях иней; на окне болтливый попугай, обученный Педро, выкрикивал обидные слова в адрес кабралистов.
Наконец Афонсо встал из-за стола; окинул рассеянным взглядом сад, павлинов на террасе; выходя из комнаты, взял Виласу под руку и неожиданно сильно оперся на него, словно впервые ощутив старческую немощь и желая обрести в преданности друга прибежище от внезапно нагрянувшего одиночества. Они молча прошли по коридору в библиотеку. Афонсо, опустившись в придвинутое к окну кресло, принялся не спеша набивать трубку. Виласа, на цыпочках, словно в комнате тяжелобольного, ходил взад и вперед мимо книжных шкафов. Стая воробьев загалдела, обсев на мгновенье протянувшиеся к балкону ветви высокого дерева. Нарушив молчание, Афонсо проговорил:
— Так что же, Виласа, Салданья попал в немилость?
Виласа, думая о другом, машинально отвечал:
— Да, это правда, мой сеньор, это правда…
О Педро да Майа больше не было произнесено ни слова.
II
Тем временем Педро и Мария, счастливые как в сказке, путешествовали по Италии, останавливаясь ненадолго в каждом городе на священном пути, идущем от пышных цветов и злаков ломбардской долины до неясной родины песен — Неаполя, сверкавшего белизной под синим небом. Они намеревались провести здесь зиму, в этой всегда теплой стране, на берегу всегда ласкового моря, где все словно создано для того, чтобы медовый месяц длился вечно.
Но в разгаре зимы, в Риме, Марии вдруг захотелось уехать в Париж. Ей наскучило путешествовать, трястись в дорожных каретах и повсюду видеть этих лаццарони, утоляющих голод невероятно длинными макаронами. Куда приятнее жить в уютном гнездышке на Елисейских полях и предаваться там радостям любви! В Париже теперь правит Луи-Наполеон, и там воцарилось спокойствие… К тому же эта древняя Италия уже несколько утомила ее: от обилия мраморных статуй и полотен с мадоннами (так шептала Мария, томно обвивая руками шею мужа) у нее просто голова идет кругом! А в Париже — модные магазины, газовые фонари, нарядная толпа на Бульварах… Да и тревожно здесь; в Италии повсюду заговорщики…
Они отправились во Францию.
Однако Париж, еще не успокоившийся, еще, казалось, сохранивший запах пороха на улицах, а на лицах — отблеск битвы, разочаровал Марию. Ночами она просыпалась от звуков «Марсельезы», ее пугали зверские лица полицейских; Париж был невесел: герцогини, бедняжки, не осмеливались показаться в Булонском лесу, опасаясь рабочих, этого ужасного сброда! Все же они прожили в Париже до весны, в уютном гнездышке, о котором мечтала Мария, обитом голубым бархатом и выходившем окнами на Елисейские поля.
К весне все вновь заговорили о революции, о возможности государственного переворота. Мария приходила в восторг от новой формы национальных гвардейцев, и это лишало Педро покоя. Когда выяснилось, что Мария беременна, Педро решил увезти ее из чарующего, но воинственно настроенного Парижа в мирно дремлющий на солнце Лиссабон.
Из Парижа он написал отцу.
Это был совет, вернее, даже требование Марии. Отказ Афонсо дать разрешение на их брак вначале привел ее в отчаяние. Она сокрушалась не о семейном разладе сына с отцом, нет, ей было невыносимо сознавать, что своим оскорбительным отказом пуританин-аристократ публично и грубо указал на ее сомнительное происхождение. Она возненавидела старика и настояла на немедленном венчании и отъезде в свадебное путешествие по Италии: ей хотелось доказать отцу Педро, что ни безупречная родословная, ни предки-готы, ни семейная честь не могут устоять перед объятьем ее обнаженных рук… Но теперь, когда они с Педро возвращаются в Лиссабон, где она намерена давать балы и блистать в обществе, признание их брака было для нее насущно необходимым; этот старик, с его жестокой старозаветной гордыней, уединившийся в Бенфике, всюду напоминал бы ей, даже среди зеркал и штофных обоев ее собственного дома, о бриге «Юная Линда», груженном черными невольниками… Она жаждала появиться в лиссабонском свете под руку со своим свекром, чья вице-королевская бородка придает такую живописность его благородному облику.
— Напиши ему, что я его обожаю, — шептала Мария мужу, склонившись над бюро и гладя волосы Педро. — Напиши, что, если у нас родится мальчик, я назову его именем деда… Напиши ему поласковее, Педро!
Письмо Педро к отцу было полно ласки и нежности. Бедный юноша любил отца. Волнуясь, он писал ему, что ждет первенца-сына и что все разногласия должны быть забыты у колыбели маленького Майа, наследника их славного рода… С откровенностью страстно влюбленного он писал отцу, как он счастлив с Марией, как она добра, хороша собой, как прекрасно воспитана — этими излияниями он заполнил целых две страницы, — и в конце письма он клялся, что немедленно по прибытии они кинутся к его ногам…
Едва сойдя с корабля, Педро поездом отправился в Бенфику. Однако оказалось, что за два дня до их возвращения Афонсо да Майа отбыл в Санта-Олавию; Педро воспринял это как оскорбление и был до глубины души уязвлен поступком отца.
Рознь между сыном и отцом сделалась еще более ожесточенной. Когда у Педро родилась дочь, он не известил об этом Афонсо и с горечью говорил Виласе, что «у него нет больше отца». Дочка была очаровательна: толстенькая, розовая малышка с белокурыми волосами и черными отцовскими глазами. Несмотря на настояния Педро, Мария не захотела ее кормить, хотя относилась к дочери с восторженным обожанием: целыми днями просиживала возле ее колыбели, забавляя девочку игрой своих драгоценных колец, целуя ее ручки, ножки, тельце, наделяя ее всевозможными нежными именами, опрыскивая духами и украшая бантами.
Безумная любовь к ребенку усиливала ее гнев против Афонсо да Майа. Оскорбление, которое он нанес ей, распространялось теперь и на этого невинного ангелочка. И Мария не сдерживала своего негодования и всячески бранила старика, называя его извергом и чудовищем…
Однажды Педро услышал это и возмутился; но Мария в ответ разразилась бурным потоком обвинений по адресу Афонсо да Майа, и, видя ее пылающее лицо и слезы на потемневших от ярости синих глазах, он смог только робко прошептать:
— Но ведь он — мой отец, Мария…
Его отец! И этот отец на глазах у всего Лиссабона обращается с женой сына, как с содержанкой! Пусть он называет себя дворянином, но ведет он себя хуже любого мужлана! И она права: он — изверг и чудовище!
И, выхватив дочку из колыбели, Мария страстно прижала ее к груди и запричитала сквозь рыдания:
— Никто нас не любит, мой ангел! Никто тебя не любит! У тебя никого нет, кроме мамочки! А другие тебя не признают!
Девочка, испуганная криками матери, залилась плачем. Педро, растроганный и пристыженный, бросился к Марии и заключил в объятья жену и дочку; все закончилось долгим поцелуем.
Педро в душе оправдывал материнский гнев Марии: ведь обижали ее ребенка. Следует сказать, что и друзья Педро — Аленкар, дон Жоан да Кунья, — навещавшие Педро и Марию в Арройосе, высмеивали упрямство помешанного на своих готских предках аристократа, удалившегося в добровольное изгнание только потому, что предки его невестки не покоятся в Алжубарроте! А можно ли сыскать вторую такую, как Мария, во всем Лиссабоне, столь нарядную, столь изящную, умеющую так мило принять друзей? Черт возьми, мир идет вперед и пора уже распрощаться с чванными условностями XVI века!