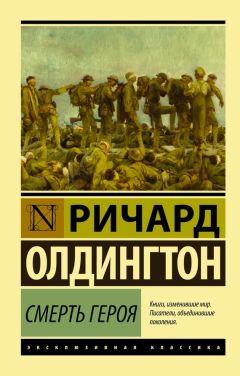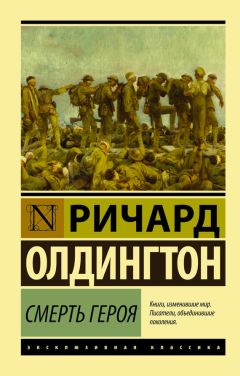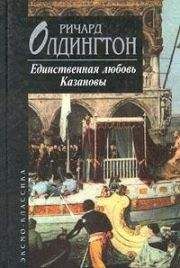Джон Фаулз - Туча
Пол говорит будто бы во сне:
— Пока все, касающееся смысла, не приобретает значение. Кроме самого смысла. «Передайте мне соль» — превращается в многознаковую структуру. А злосчастную чертову соль так и не передают.
Кэтрин улыбается.
— Иногда.
— Немчура, — кряхтит Пол. — Не француз.
— Заткнись и спи, — говорит Бел.
Питер подает сигналы: я серьезный человек. Он даже говорит медленнее.
— Тип, ну, тот, который рассказывал о нем… что-то там плел про то, что религия средних классов — набор банальностей, это верно?
— По-моему, он сказал «этос».
— Потому что оригинальность разрушительна — так?
— Это зависит от контекста.
Бел смотрит на склоненную голову сестры. Взвешивающе.
— Как?
— Существуют контексты среднего класса, которые требуют, чтобы вы были оригинальны. Остроумны. Даже революционны. Но контекст — это своего рода контрзнак. Бьющий козырь.
Бел говорит:
— Например, как быстро вы засыпаете после обеда, кончив проклинать общество, которое позволяет вам засыпать после обеда.
Пол бормочет:
— Я это слышу.
Питер не дает отвлечь себя.
— То есть реальная оригинальность должна быть активно революционной? Так? Вот к чему подводил этот тип.
— Мне кажется, люди вроде Барта больше заинтересованы в том, чтобы заставить людей осознать, как именно они общаются и пытаются контролировать друг друга. Отношение между демонстрируемыми знаками, словесными или нет, и реальным смыслом того, что происходит на самом деле.
— Но прежде вы должны изменить общество, не так ли?
— Остается надеяться, что более глубокое осознание приведет к этому.
— Но я вот о чем… понимаете… если все сводится к выборке людских банальностей, то это просто наблюдение за словами. Ну, как наблюдение за птицами. Или нет?
— Полагаю, что даже от орнитологии есть своя польза.
— Но вряд ли первостепенная, верно?
— Была бы первостепенной, если бы птицы служили базисом человеческого общества. Каким является общение.
− Она видит уголком глаза — ведь все это время глядит она на Эмму, — что он кивает. Как если бы она что-то доказала. Она осознает, и это очень просто, что ненавидит его; хотя он порождение случая, невежда, как таковой он начинает зарабатывать свое право быть эмблемой, жутким знаком, потому что он испытывает — или дразнит — не Барта и семиотику, но ее. Он подразумевает детскости мелких мужчин вроде: почему ты мне не улыбнешься, что я такого сделал, пожалуйста, относись с уважением, когда я слежу за своим языком, я же знаю, что тебе не нравится мой язык.
Эмма внезапно приподнимается и садится, потом идет к матери и шепчет ей на ухо. Бел обнимает ее, целует в щеку, ей придется подождать.
— По-вашему, это может дойти по телеку?
— Что может?
— Ну, этот тип, Барт. То, что вы мне только что говорили.
— Мне кажется, по самой сути это надо читать.
— Вас не заинтересовало бы? Набросайте парочку-другую идей, я хочу сказать: если эти знаки не все словесные, они могут дать такой материальчик для иллюстраций…
Она бросает на него быстрый взгляд. Своим стебельком он подталкивает какое-то насекомое в траве, нагнув голову; длинные песочно-рыжие волосы. Она снова смотрит на Бел, а та улыбается ласково, смертоносно, обнимая Эмму одной рукой.
— Я вовсе не специалист по нему. Вовсе нет. Есть сотни…
Он ухмыляется ей.
— Специалисты пишут паршивые сценарии. Их используют для проверки. Ну, для интервью. Я всегда предпочту кого-то, кто знает суть. Кто сама до всего дошла.
Бел говорит:
— Тебе предлагают работу.
Питер говорит:
— Просто идея. Сейчас пришла в голову.
Кэтрин в панике.
— Но я…
Питер говорит:
— Нет, серьезно. Если захотите зайти обсудить, когда в следующий раз будете в городе. — Он копается в заднем кармане. — И скажите, как называется этот сборник эссе.
— Mythologies. — Она повторяет, переводя: — «Мифологии».
Он записывает в крохотный блокнотик. Кэтрин опять взглядывает на Бел, которая не то сухо посмеивается, не то одобряет. Невозможно решить; потом снова смотрит вниз на Питера.
— Нет, я правда не могу. Я в жизни не писала сценариев.
— Сценаристов наберется десяток за пенни. Никаких проблем.
— Так жутко отзываться о бедняжках, — говорит Бел и затем как бы между прочим: — Да и о ком угодно.
Стерва.
— Извините, но я…
Он засовывает блокнотик назад в карман и пожимает плечами.
— Если передумаете.
— Я честно не могу.
Он разводит ладонями; и она глядит на Бел, давая ей понять, что на отказ ее вдохновила отчасти она. Но Бел в непробиваемой броне непричастности. И подталкивает Эмму.
− Теперь можно.
Эмма бочком подходит к Кэтрин, потом нагибается и шепчет ей на ухо.
— Прямо сейчас?
Девочка кивает.
— Эмма, я не знаю, сумею ли придумать хоть одну.
— Сумеешь, если попробуешь. Как в прошлое лето.
— Я разучилась.
Бел говорит:
— Она нашла потайное место. Вас не подслушают.
— Оно такое красивое. И совсем потайное.
— Только ты и я?
Девочка отчаянно кивает. Затем шепчет:
— Пока Кэнди не проснулась.
Кэтрин улыбается.
— Ну хорошо.
— Идем же. Побыстрее.
Она протягивает руку за греческой сумкой, потом встает и берет Эмму за руку. Девочка уводит ее за бук к дорожке, по которой они пришли сюда, и ведет по ней дальше. Питер смотрит, как они скрываются из виду, краткий взгляд на Бел, затем вниз в землю перед собой.
— Боюсь, не слишком удачно вышло.
— Ах, Боже мой, не беспокойтесь. В данное время она вся оборонительно ощетинилась. С вашей стороны было жутко любезно предложить.
— Она вернется к…
— Думаю, да. Когда смирится с тем, что произошло.
— Чертовски ужасно, — говорит Питер.
— Полагаю, пока еще слишком рано.
— Да, конечно.
Пол начинает тихо похрапывать.
— Старый пьяница, — бормочет Бел.
Питер ухмыляется, выдерживает паузу.
— Я слышал, выйти должно еще много. Пол говорил.
— Да, они надеются, что хватит на последнюю книгу.
— Ужасно. — Он покачивает головой. — С кем-то подобным. И таким образом.
— Но они же всегда наиболее уязвимы, не правда ли?
Он кивает, а секунду спустя опять качает головой. Но теперь он оглядывается на раскинувшуюся Салли, потом находит взглядом сына.
— Ну что же. Мой знаменитый номер отцовства.
Он приподнимается на колени, потом встает, посылает воздушный поцелуйчик вниз Бел — супер-пикник — и спускается туда, где Том строит свою плотину.
— Ого-го, Том! Бог мой, ну просто замечательно.
Пол похрапывает во сне. Бел закрывает глаза и грезит о мужчине, которого когда-то знала, хотела, но в постель с ним почему-то так и не легла.
«Потайное» место не так уж и далеко — чуть-чуть вверх по склону от дорожки к одинокому валуну, который оказался в стороне от стада. Ложбина в кустарнике за ним; невидимый каменный уступ, который отражает солнце и маргаритки, и ярко-синие стрелки шалфея, немного клевера, единственный ярко-красный мак.
— Эмма, тут чудесно.
— Ты думаешь, они нас найдут?
— Нет, если мы будем сидеть тихо-тихо. Так идем же и сядем вон под тем деревцом. — Она садится, девочка выжидательно становится на колени рядом с ней. — Вот что: нарви цветочков, а я придумаю историю.
Эмма торопливо вскакивает.
— Всякие цветочки?
Кэтрин кивает. Она нашаривает в красной сумке сигареты, закуривает одну. Девочка спускается туда, где солнце заливает дно маленькой впадины, но оглядывается.
— Про принцессу?
— Конечно.
Ничего не приходит в голову; ни призрака даже самой простой сказочки; только призрак того последнего сокрушенного островка. Доброта, что еще? Пусть даже больше ради Бел, чем ради нее. И ничего, ничего, кроме бегства. К детству, к женственной фигурке в желтой блузке и белых шортиках, босоногой, сосредоточенно дергающей упрямые цветы, стараясь вести себя очень хорошо, тихо-тихо, не оглядываясь, будто они играют в прятки. Игра, не искусство. Твоя маленькая белокурая племянница, твоя любимица, твоя вера в невинность, нежная кожа, пухлые губки, доверчивые глаза. Которую следовало бы любить гораздо сильнее, чем ты ее любишь. Этот странный водораздел между маленькими детьми и не-матерями; Салли, неловкая попытка стать асексуальной, заботливой, почти няней. Вот почему и завидуешь Бел. Нельзя плакать, надо сосредоточиться.
Если бы только. Если бы только. Если бы только. Если бы только.
— Ты придумала, Кэт?
— Почти.
— Мне жарко.
— Ну так иди сюда.
И девочка взбирается в тень, где Кэтрин сидит под терновником, и снова становится на колени, держа сорванные цветы.
— Они очень милые.