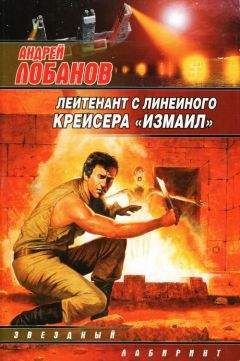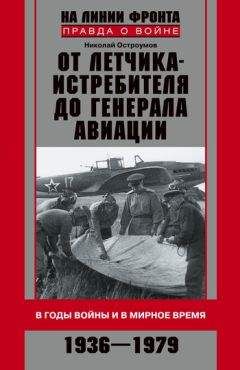Томас Манн - Королевское высочество
Так оно повелось и вот к чему привело. Прежде всего на больших лесных участках совершенно истощилась почва, потому что ее беспрерывно, непланомерно и хищн-ически лишали естественного удобрения. Дело зашло так далеко, что часто сгребали не только верхний покров — недавно осыпавшиеся иглы и листья, — но и большую часть многолетней лесной опали, и пускали на сельскохозяйственные нужды: как подстилку для скотины или как удобрение. Во многих лесах совсем не осталось перегноя, в других почва так оскудела, что деревья выродились и стали какими-то жалкими калеками. И это явление наблюдалось как в казенных лесах, так и в крестьянских.
Если бы к таким мерам прибегали, чтобы* выручить из временной беды* сельское хозяйство, это бы еще куда ни шло, это можно было бы оправдать. Но хотя и раздавались голоса, предостерегающие от такого неразумного и даже опасного использования лесной опали, тем не менее перегноем продолжали торговать без особой нужды, как говорили, из чисто коммерческих соображений, то есть из соображений, которые, если смотреть здраво, преследовали только одну цель: наличные деньги, потому что денег-то как раз и не хватало. Но, чтобы получить деньги, все время растрачивали капитал, пока к общему ужасу не заметили, что капитал вдруг почти иссяк.
Страна была земледельческая, однако ее обуяло бессмысленное, искусственно раздутое и неуместное рвение не отставать от века и во что бы то ни стало проявить деловой дух. Показательно в этом отношении молочное хозяйство, о котором здесь следует сказать несколько слов. Все чаще и чаще стали раздаваться жалобы, особенно в годовых врачебных отчетах, на ухудшение питания сельского населения, что сказывается и на его физическом развитии. Что же, собственно, произошло? У скотовладельцев было только одно на уме — превращать в деньги весь удой. Их соблазнили возможность промышленного использования молока, развитие прибыльного молочного хозяйства, и они пренебрегли нуждами собственной семьи. Здоровая молочная пища стала редкостью в деревне, вместо нее начали все больше и больше потреблять малопитательное снятое молоко, неполноценные суррогаты, растительное масло, а также, к сожалению, и спиртные напитки. Злопыхатели стали поговаривать о том, что население недоедает, что оно физически истощено, морально опустилось. Палате были представлены факты, и правительство обещало обратить на это дело серьезное внимание.
Но было совершенно ясно, что правительство, в сущности, одержимо тем же духом наживы, что и сбитые с толку скотоводы. Казенные леса безжалостно вырубались, засадить их снова не было возможности, а это означало, что общенародному достоянию будет наноситься все больший и больший ущерб. Иногда порубки, возможно, и бывали нужны — в тех случаях, когда на лес нападали вредители, но чаще они были вызваны все теми же финансовыми соображениями; и вместо того, чтобы употребить деньги, вырученные за вырубленный лес, на приобретение новых лесных дач, вместо того, чтобы как можно скорее засадить вырубленные участки; словом, вместо того чтобы восстановить ущерб, нанесенный казенному лесу, и таким образом восстановить свой основной капитал, — вырученные деньги пускали на покрытие текущих расходов и па выплату по долговым обязательствам. Что и говорить, уменьшение государственного долга было чрезвычайно желательно, но те же злопыхатели твердили, что сейчас не время погашать долги.
Люди, не заинтересованные в том, чтобы золотить пилюлю, не могли не признать, что финансы страны находятся в полном расстройстве. Бремя государственного долга равнялось шестистам миллионам; народ терпеливо, самоотверженно нес это бремя, но в душе стонал. Ибо бремя, уже само по себе непосильное, еще усугубляли высокие проценты и тяжелые условия выплаты, обычно диктуемые государству с пошатнувшимся кредитом, чьи обязательства котируются очень низко, государству, которое в мире заимодавцев уже причисляется к «доходным», то есть платящим высокий процент.
Один тяжелый финансовый период сменялся другим, полосе дефицитов не было видно конца. Безалаберное ведение хозяйства не улучшалось от смены лиц, и единственное лекарство против подтачивающего государство недуга видели в новых займах. Еще министру финансов фон Шредеру, кристально чистая душа и благородные намерения которого не подлежат сомнению, великий герцог даровал личное дворянство за то, что тот сумел при чрезвычайно трудных обстоятельствах разместить под очень высокие проценты новый заем. Министр был искренне озабочен поднятием государственного кредита, но он не мог придумать другого выхода из положения, как прибегнуть к новым займам, чтобы покрыть старые, и, таким образом, его действия, хоть и предпринятые с самыми благими намерениями, оказались дорого обошедшимся самообманом. Ибо при одновременной выдаче и погашении векселей платят больше, чем получают, и на такой операции были потеряны миллионы.
Казалось, этот народ не способен дать мало — мальски одаренного финансового деятеля. Иногда прибегали к предосудительной практике и наивным подтасовкам. При утверждении бюджета уже нельзя было точно сказать, где обычные, а где чрезвычайные расходы. Обычные статьи расхода относили за счет чрезвычайных и тем самым обманывали и себя и весь свет, скрывая истинное положение вещей, ибо займы, сделанные якобы для покрытия чрезвычайных нужд, пускали на погашение дефицита в обычной смете. В течение какого-то времени финансовым ведомством фактически распоряжался бывший гофмаршал.
Доктор Криппенрейтер, к концу царствования Иоганна-Альбрехта III принявший в свои руки финансовое кормило, был тем самым министром, который провел в парламенте последнее и исключительно тяжелое повышение налогов, ибо, подобно господину фон Шредеру, был убежден в насущной необходимости погашения долгов. Но страна, из которой вообще трудно было выжать налоги, была доведена до полного истощения, стала, можно сказать, неплатежеспособной, и Криппенрейтер пожал только общую ненависть. Предпринятая им операция свелась к перекладыванию капитала из одной руки в другую, причем с неминуемой потерей, ибо, повышая налог, взваливали на народное хозяйство более тяжкое и ощутимое бремя, чем то, которое с него снимали, погашая долги…
Где же в таком случае искать помощи и спасения? Ясно, что оставалось ждать только чуда, а пока оно не свершилось, нужна была строжайшая экономия. Народ был безропотный и преданный. Он любил своих государей, как самого себя, благоговел перед величием монархического принципа, считая, что власть монарха от бога. Но экономический гнет был слишком мучителен, слишком тягостен для всех. Даже самому невежественному человеку был понятен жалобный язык вырубленных и изувеченных лесов. Поэтому-то в ландтаге и настаивали на том, чтобы был урезан цивильный лист, сокращены уделы и ограничены суммы, отпускаемые министерству двора.
По цивильному листу выдавалось полмиллиона марок, оставшиеся у царствующего дома владения приносили семьсот пятьдесят тысяч марок. И это все. А двор был в долгу — сумму долга, возможно, знал граф Трюммергауф, великогерцогский финанц-директор, господин весьма представительный, но в деловом отношении абсолютно бездарный. Иоганн-Альбрехт не знал этой суммы, во всяком случае делал вид, что не знает, точно следуя в этом примеру отцов и дедов, которые уделяли своим долгам весьма мимолетное внимание.
— Если народ благоговел перед своими государями, то и у тех было соответственно развито чувство собственного величия, временами принимавшее фантастические размеры и всего заметнее — и опаснее —. проявлявшееся в стремлении к пышности и безудержной роскоши как внешним выражениям этого величия. Одного из Гримбургов даже прозвали «Великолепный», но заслужили это прозвище почти все. Итак,' задолженность дома Гримбургов была исторической и наследственной, уходящей в глубь веков, в те далекие времена, когда все займы были еще частным делом государя и когда Иоганн Жестокий брал ссуду под залог свободы своих именитых подданных.
Эти времена миновали, и Иоганн-Альбрехт III, истый Гримбург по своим замашкам, был решительно не в состоянии им следовать. Его отцы и деды основательно растрясли фамильное достояние, теперь оно было равно нулю или вроде того, оно ушло на постройку загородных замков с французскими названиями и мраморными колоннадами, на парки с фонтанами, на роскошные оперные постановки и прочие дорогостоящие затеи. Теперь приходилось экономить, и, вопреки вкусам великого герцога, без всякого желания с его стороны, расходы на двор были постепенно урезаны.
О жизни, которую вела принцесса Катарина, сестра великого герцога, в столице говорили со слезами умиления. Ее муж принадлежал по женской линии к одному, из соседних царствующих домов; она овдовела, возвратилась в резиденцию брата и жила вместе со своими рыжеволосыми детьми в бывшем дворце наследного великого герцога на Альбрехтсштрассе, перед парадным входом которого целый день стоял рослый швейцар при булаве и с перевязью, но в самом дворце жизненный уклад был чрезвычайно скромен…