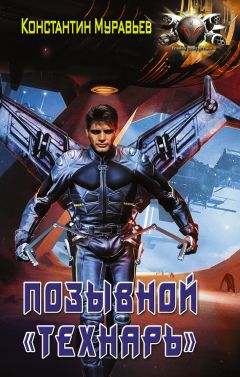Эдён Хорват - Юность без Бога
— Долг?
— Так как человек по природе своей — существо общественное, он всегда нуждается в контакте с семьей, с общиной, государством. Государство — чисто человеческое устройство. У него должно быть только одно предназначение — по мере возможностей обеспечивать счастье на земле. Оно является природной необходимостью, потому и богоугодно, и подчинение ему — долг совести.
— Но вы же не станете утверждать, что нынешнее государство в меру своих возможностей обеспечивает на земле счастье?
— Да нет, я этого совсем не утверждаю, потому что всякое человеческое общество стоит на эгоизме, лицемерии и грубой силе. Как говорит Паскаль: «Мы жаждем истины, а находим в себе лишь неуверенность. Мы ищем счастья, а обретаем лишь горести и смерть». Вы удивитесь: простой деревенский священник вам цитирует Паскаля, не удивляйтесь, я не просто деревенский священник, меня перевели сюда временно. Можно сказать в каком-то смысле сослали. — Он улыбается. — Да-да! Редко становится праведным тот, кто никогда не грешил, редко — мудрым, ни разу не сделавшим глупости. А без маленьких жизненных глупостей нас всех не было бы на свете!
Он тихо смеется, но я не смеюсь с ним. Он осушает очередной бокал.
Неожиданно я спрашиваю:
— Так если государственный порядок угоден Богу…
— Чушь, — перебивает он. — Не государственный порядок, а государство является природной необходимостью, оттого оно и богоугодно.
— Так это же одно и то же!
— Нет, не одно и то же. Бог создал природу на Земле, значит — богоугодно то, что природно необходимо. Но последствия Творения, а в нашем случае государственный порядок… продукт свободной человеческой воли. Таким образом, только государство богоугодно, а не государственный порядок.
— А если государство разваливается?
— Государство никогда не разваливается, максимум — разрушается одна его общественная структура, уступая место другой. Само государство остается всегда, даже если составлявший его народ вымирает. Тогда на его место приходит другой.
— Значит, крах государственного порядка не природно необходим?
Он улыбается.
— Иногда даже богоугоден.
— Если структура государства рушится, почему же Церковь опять оказывается на стороне богатых? Почему в наше время она опять же на стороне акционеров лесопилки, а не детей в окнах?
— Потому что богатые всегда побеждают.
Я взрываюсь:
— Чудная мораль!
А он по-прежнему спокоен.
— Мыслить ясно — это и есть нравственность. — И он опять осушает бокал. — Да. Богатые всегда будут побеждать, потому что они более жестоки, подлы и бессовестны. Сказано же в писании, что верблюд скорее пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый попадет на небеса.
— А Церковь? Она-то сама пройдет через игольное ушко?
— Нет, — говорит он и снова улыбается. — Это трудно себе представить. Ведь она сама и есть игольное ушко.
Чертовски умен этот поп, думаю я, а все равно неправ. Не прав!
— Церковь служит богатым и даже не думает бороться за бедных… — говорю.
— И за бедных она борется, — перебивает он снова, — но просто на другом фронте.
— На небесном, что ли?
— Там тоже были павшие.
— И кто же?
— Иисус Христос.
— Так это был Бог, а что пришло потом?
Он подливает мне вина и задумчиво смотрит перед собой.
— Это хорошо, — произносит он тихо, — что в наши дни у Церкви во многих странах плохи дела. Хорошо для Церкви.
— Может быть, — роняю я и замечаю, что волнуюсь. — Давайте вернемся к детям в окнах. Когда мы шли по переулку, вы сказали: «Они не здороваются — озлобленны». Но вы же умный человек, вы же должны понимать, эти дети не озлобленны — им жрать просто нечего!
Он серьезно смотрит на меня.
— Я имел в виду, что они озлобленны, — цедит он, — потому что больше не верят в Бога.
— Как можно от них этого требовать?
— Бог проходит по всем дорогам Земли…
— Как он может зайти в тот проулок, увидеть тех детей и не помочь?
Он молчит. Медленно допивает свое вино и опять серьезно на меня смотрит.
— Бог — это самое страшное на свете.
Я потрясен. Правильно ли я расслышал? Самое страшное? — Он поднимается, подходит к окну, выглядывает наружу, на кладбище.
— Он карает, — слышу я его голос.
«Что ж это за никчемный Бог, чтоб наказывать бедных детей?» — думаю я.
Теперь священник меряет шагами комнату.
— Нельзя забывать Бога. Даже если нам непонятно, за что Он наказывает. Если бы только у нас не было свободной воли!
— Вы имеете в виду первородный грех?
— Да.
— Я не верю в него.
Он останавливается передо мной.
— Значит, не верите в Бога.
— Да, так и есть. Я не верю в Бога. Слушайте, — прерываю я наступившее молчание, потому что мне очень нужно это сказать. — Я все-таки преподаю историю, известно, что мир существовал и до рождества Христова; Эллада, античный мир, мир без первородного греха…
— А вот тут вы, похоже, ошибаетесь. — Он подходит к книжному шкафу, перелистывает книгу. — Раз вы преподаете историю, так не мне вам рассказывать, кто был первый греческий философ, ну то есть наидревнейший.
— Фалес Милетский.
— Да, но только фигура эта наполовину мифическая, и мы толком ничего о нем не знаем. Первый дошедший до нас письменный документ греческой философии принадлежит Анаксимандру, тоже из Милета. Родился в 610-m, умер в 547-м, до Рождества Христова. Вот всего одна оставшаяся от него фраза. — Он подходит к окну, начало уже темнеть, и произносит: «Откуда вещи берутся, там суждено им и исчезнуть, ибо они должны понести покаяние и кару за вину своего существования».
Римский стражник
Мы в лагере уже четыре дня. Вчера фельдфебель объяснял ребятам, как действует винтовка, как ее чистить и смазывать. Сегодня целый день чистили и смазывали, завтра будут стрелять. Фанерные солдаты ждут своего расстрела.
Ребята настроены по-боевому — не то, что фельдфебель. За эти четыре дня он состарился лет на десять. Еще четыре таких же и на вид ему будет больше, чем на самом деле. К тому же он подвернул где-то ногу, видимо, повредил сухожилие и теперь хромает.
Но свои страдания скрывает. Только мне вчера признался, прежде, чем заснуть, что лучше бы сейчас сшибал кегли, играл в карты, ложился в нормальную постель и тискал крепкую кельнершу — короче, был бы дома. Потом уснул и захрапел.
И приснилось ему, что он генерал и выиграл сражение. И что кайзер снял все свои ордена и собственноручно приколол ему на грудь. И на спину. А кайзерша целовала ему ноги.
— И что бы это должно было означать? — спросил он меня утром.
— Может, ваш сон означает исполнение желаний? — выдвинул предположение я. На это он сказал, что никогда в жизни не мечтал, чтобы кайзерша целовала ему ноги.
— Напишу-ка я жене, — продолжил он задумчиво, — у нее есть сонник. Пусть там посмотрит, к чему снятся генерал, кайзер, орден, сражение, грудь и спина.
Пока он писал перед палаткой, появился возбужденный мальчишка, то есть Л.
— Что случилось?
— Меня обокрали!
— Обокрали?
— Утащили мой фотоаппарат, господин учитель.
Мальчишка не мог прийти в себя.
Фельдфебель смотрел на меня. «Что делать?» — читалось у него во взгляде.
— Объявить построение, — распорядился я, потому что ничего лучшего в голову мне не приходило.
Фельдфебель облегченно кивнул, приковылял на центральную площадку, где развевалось знамя, и взревел как старый лось:
— По-о-олк, строй-ся!
Я повернулся к Л.
— Ты кого-нибудь подозреваешь?
— Нет.
Полк построен. Я всех опросил, никто ничего сказать не смог. Сходили с фельдфебелем в палатку к Л. Спальник его лежал сразу налево от входа. Ничего мы не нашли.
— Вряд ли, — сказал я фельдфебелю, — это кто-то из наших, иначе бы кражи происходили и раньше. Я подозреваю, что часовые у нас пока что несут караул не очень-то добросовестно и кто-то из шайки сумел к нам проникнуть.
Фельдфебель дал добро, и мы решили на следующую ночь часовых проверить. Вот только как?
Приблизительно в ста метрах от лагеря находился сеновал. Там мы и хотели заночевать и проследить за часовыми. Фельдфебель с девяти до часу, а я с — часу до шести.
После ужина мы потихоньку выскользнули из лагеря. Никто из ребят нас не заметил.
Я поудобнее устроился в сене…
В час будит меня фельдфебель.
— Пока все в порядке, — докладывает.
Я выбираюсь из сена и занимаю пост в тени сеновала…
Да, именно — в тени. Ночь такая лунная.
Волшебная ночь!
Я вижу лагерь, различаю часовых. Сейчас их хорошо видно. Они стоят неподвижно или прохаживаются в ту или в другую сторону. Часовые — западный, восточный, северный, южный — по одному с каждой стороны. Стерегут свои фотоаппараты.