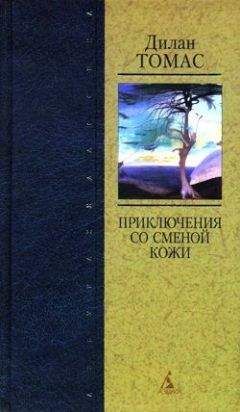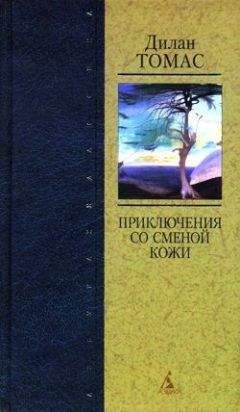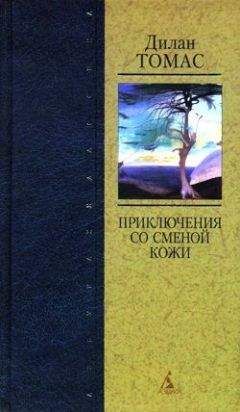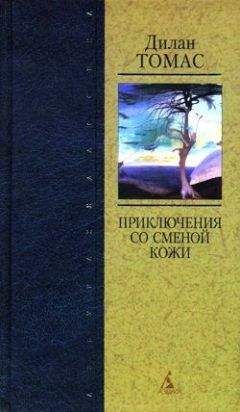Дилан Томас - Портрет художника в щенячестве
– Поди сюда и сядь, Арнольд Мэтьюз, ты нам ответишь на кое-какие вопросы, – сказала она тем своим голосом, каким разговаривала в день стирки, и поправила шляпку.
Эдит вцепилась ей в плечо:
– Патриция! Ты пообещала. – Она кромсала носовой платок. По щеке катилась слеза.
Арнольд сказал тихо:
– Скажите мальчонке, пусть побежит куда-нибудь, поиграет.
Он побежал за навес, а когда вернулся, услышал, как Эдит говорит. «У тебя на локте дырка, Арнольд», а молодой человек стряхивает с ботинок снег и разглядывает сердца и стрелы на стене за головами у Эдит с Патрицией.
– С кем ты гулял по средам? – спросила Патриция. Она держала в корявых пальцах письмо Эдит, прижимала к забрызганному воротнику.
– С тобой, Патриция.
– С кем ты гулял по пятницам?
– С Эдит, Патриция.
Мальчику он сказал:
– А вот ты, сынок, можешь слепить снежок с футбольный мяч?
– И с два даже мяча могу.
Арнольд повернулся к Эдит:
– Ты откуда знаешь Патрицию Дэвис? Ты же в Бринмилле работаешь.
– Нет, теперь в Гуимдонкине, – сказала она. – Я еще тебя не видела, не сказала. Сегодня сказать хотела, да вот… узнала. Как ты мог, Арнольд? В мой выходной со мной, а по пятницам – с Патрицией!
Снежок превратился в низенького снеговика с грязной скособоченной головой, зато он ему отдал свою шапку. И снеговик курил карандаш.
– Я никого не хотел обидеть, – сказал Арнольд. – Я вас обеих люблю.
Эдит взвизгнула. Мальчик прыгнул, и снеговик рухнул с разбитой спиной.
– Не ври, как это так – обеих? – крикнула Эдит и замахнулась сумочкой на Арнольда. Сумочка расстегнулась, пачка писем вывалилась на снег.
– Слабо тебе подобрать, – сказала Патриция.
Арнольд не шелохнулся. Мальчик разыскивал свой карандаш в останках снеговика.
– Выбирай, Арнольд Мэтьюз. Выбирай прямо сейчас.
– Я или она, – сказала Эдит.
Патриция повернулась к Арнольду спиной. Эдит застыла с открытой, болтающейся на локте сумочкой. Метель, налетев на пачку, ворошила верхнее письмо.
– Ну, вы обе, – сказал он, – обе с катушек долой. Сядьте, поговорим. Ну не плачь ты, Эдит. Сотни мужчин любят не по одной женщине, неужели не читала? Нельзя же так, Эдит. Ну, будь умницей.
Патриция разглядывала стрелы, сердца, старые имена. Эдит смотрела, как треплет письма метель.
– Я выбираю тебя, Патриция, – сказал Арнольд.
Патриция все стояла к нему спиной. Эдит открыла рот, чтобы закричать, но он приложил палец к губам. И что-то шепнул, беззвучно, чтоб не услышала Патриция. Мальчик видел – он уговаривал, успокаивал Эдит, но та все равно завизжала, выскочила из-под навеса и побежала по тропке, и сумочка била ее по бедру.
– Патриция, – сказал Арнольд, – повернись ко мне. Я все сказал. Я тебя выбираю, Патриция.
Мальчик присел на корточки и нашел свой карандаш, насквозь проткнувший снеговику голову. Разогнулся и увидел Патрицию с Арнольдом под ручку.
Снег ему промочил карман, таял в ботинках, забирался за воротник.
– Ох, ну на кого ты похож? – Патриция к нему бросилась, взяла за руки. – Весь до ниточки!
– Просто немножечко снега, – сказал Арнольд, вдруг оказавшийся один под навесом.
– Ну да, немножечко снега, он как льдышка холодный, и ноги хоть выжимай. Сейчас же идем домой!
Все трое стали карабкаться по тропе к главной аллее, и Патриция оставляла под валящим снегом большие, как лошадиные, следы.
– Смотри, вон наш дом! И крыша белая!
– Скоро, скоро придем, моя рыбка.
– Я лучше на улице останусь, буду снеговика лепить, такого, как Арнольд Мэтыоз.
– Ш-ш! Мама ждать будет. Надо идти домой.
– Ничего она не будет. Она с мистером Робертом загуляла. Загуляла, убежала, ухиляла!
– Ты прекрасно знаешь, что мама пошла по магазинам с миссис Партридж, и нечего сочинять разные глупости.
– А вот Арнольд Мэтыоз сочиняет. Сказал, что любит тебя больше Эдит, а сам ей что-то шептал у тебя за спиной.
– Клянусь, это неправда, Патриция. Я совсем не люблю Эдит.
Патриция остановилась.
– Не любишь Эдит?
– Нет, говорю тебе, я тебя люблю. Я совсем ее не люблю. Ох ты, Господи! Да что ж это такое! Ты не веришь? Я тебя люблю, Патриция. Эдит мне – никто. Ну просто я с ней встречался. Я же всегда в парке – А ей говорил, что любишь.
Мальчик оторопело стоял между ними. Почему Патриция так рассердилась? Лицо красное, глаза сверкают. Грудь ходуном. Сквозь дырку в чулке он видел длинные черные волоски. Ну и ножища. Я весь с эту ногу, – он думал. – Мне холодно. Я чаю хочу. У меня в ширинке снег.
Арнольд медленно пятился по тропе.
– Я ей должен был сказать, а то бы она не ушла. Я должен был, Патриция. Ты же видела, она какая. Я ее ненавижу! Честное слово!
– Р-раз! Р-раз! – крикнул мальчик.
Патриция отвесила Арнольду одну оплеуху, другую, дергала его за шарф, колотила локтями. Она избивала его и орала не своим голосом:
– Я тебе покажу, как обманывать Эдит! Свинья ты эдакая! Поганец! Я тебе покажу, как сердце ей разбивать!
Он заслонял от нее лицо, пятился, шатался.
– Патриция! Патриция! Не бей меня! Люди смотрят!
Когда Арнольд упал, две женщины с зонтиками вынырнули из-за куста под валящим снегом.
Патриция стояла над ним:
– Ей врал и мне будешь врать? Вставай, Арнольд Мэтьюз.
Он встал, поправил шарф, утер глаза красным платочком, приподнял шапочку и побрел к навесу.
– А вы? – Патриция повернулась к любопытным. – Постыдились бы! Две старые карги, снежком играются.
Те метнулись за свой куст.
А они с Патрицией, взявшись за руки, пошли снова к главной аллее.
– Я же снеговику шапку оставил! – вспомнил он. – Мою любимую шапку!
– Беги скорей. Семь бед – один ответ. Уж мокрее мокрого.
Он еле нашел свою шапку под снегом. В углу под навесом сидел Арнольд и читал письма, которые вывалила Эдит, медленно переворачивал мокрые листы. Арнольд его не видел, и он, стоя за столбом, не стал мешать Арнольду. Тот внимательно читал каждый лист.
– Что-то долго ты ее отыскивал, – сказала Патриция. – А молодого человека там не видел?
– Нет, – сказал он. – Он ушел.
Дома, в теплой гостиной, Патриция ему опять велела переодеться. Он держал руки у огня, и скоро им стало больно.
– У меня руки подгорели, – сказал он. – И ноги, и лицо.
Она его утешила и потом сказала:
– Ну? Вот видишь. Все прошло, ничего не болит. Не сразу сказка-то сказывается. – Она суетилась, что-то прибирала в гостиной. – Все сегодня наплакались всласть.
Драка
Я стоял в конце спортивной площадки и бесил мистера Сэмюэлса, который жил сразу же за высокой оградой. Мистер Сэмюэлс еженедельно жаловался, что школьники запускают яблоками, мячами и камнями в окно его спальни. Он сидел в шезлонге посреди своего ухоженного садика и пытался читать газету. Я был от него в нескольких метрах. Я играл с ним в гляделки. Он притворялся, что не замечает меня, но я знал, что он знает, что я тут стою, спокойно и нагло. То и дело он поглядывал на меня из-за газеты и тогда видел, что я тихо, строго и одиноко смотрю на него – глаза в глаза. Я решил уйти домой, как только он сдастся. К обеду я все равно опоздал. Я почти его победил, газета дрожала, он пыхтел, но тут незнакомый мальчишка, неслышно подкравшись, стал толкать меня вниз с горы.
Я запустил ему в лицо камнем. Он снял очки, спрятал в карман пальто, снял пальто, аккуратно развесил на ограде и на меня бросился. В пылу схватки я оглянулся и увидел, что мистер Сэмюэлс газету свою сложил на шезлонге, стоит и нас наблюдает. Только зря я оглянулся. Незнакомый мальчишка дважды мне накостылял по затылку. Мистер Сэмюэлс аж подпрыгнул от радости, когда я рухнул у ограды. Я повалялся в пыли, потный, избитый, истерзанный, потом вскочил и приплясывая, боднул мальчишку в живот, и мы покатились, сцепившись. Сквозь мокрые ресницы я видел, что у него хлещет из носу кровь. Это я заехал ему по носу. Он вцепился мне в воротник и таскал меня за волосы.
– Так! Наддай ему! – орал мистер Сэмюэлс.
Мы оба на него глянули. Сжав кулаки, он прыгал по саду. Но тут сразу замер, кашлянул, поправил панаму, пряча от нас глаза, повернул нам спину и потащился к своему шезлонгу.
Мы швыряли в него камешками.
– Я ему покажу «наддай», – сказал мальчишка, когда мы бежали через площадку от воплей мистера Сэмюэлса вниз, по ступенькам, и опять в гору.
Мы вместе пошли домой. Я восхищался его разбитым носом. Он сказал, что глаз у меня, как крутое яйцо, только черного цвета.
– В жизни не видел такой кровищи, – сказал я.
Он сказал, что у меня самый великолепный подбитый глаз во всем Уэльсе, может даже во всей Европе. Спорим – Танни[2] и не снился такой подбитый глаз.
– А у тебя вся рубашка в крови.
– Из меня иногда ведрами хлещет.
На Уолтерс-роуд мы встретили стайку студенток, и я сдвинул шапку набекрень и понадеялся, что глаз у меня с козье вымя, а он распахнул пальто, чтоб они полюбовались на кровавые пятна.