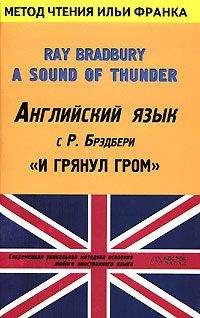Василий Смирнов - Открытие мира (Весь роман в одной книге)
— Смотрю — катит тройка, важнецкая такая, и прямо в проулок, рассказывал Шурка, шмыгая распухшим носом. — Я так сразу и догадался: Миша Бородулин едет.
— И я догадался, — сказал Яшка.
— И я! — пропищала Катька. — Четыре кольца… золотые. Вот провалиться мне!
— Пять! Я считал, — поправил Яшка. — И все с драгоценными каменьями. Он пальцами шевельнул, ка — ак они загорятся… чистый огонь.
— А набалдашник у тросточки серебряный. Ты видел? — страшным шепотом спросил Колька. — Змея — и жало высунула.
— Эге, — кивнул Яшка. — Только не змея, а рука. И фигу кажет.
— Змея! Змея! — настаивал Колька, вытаращив глаза и давясь пряником.
— Говорят тебе — рука! — рассердился Яшка Петух. — И фигу кажет… тебе, дураку. Глаза по ложке, а не видят ни крошки.
Катька задумчиво посмотрела на свои маленькие, тонкие руки. Сорвала травинку, сделала колечко и надела на палец. Поцарапала рыжую вихрастую голову.
— От шляпы черная ниточка к уху привязана. Зачем? — спросила она.
— Чтобы шляпу ветром не сдуло, — объяснил Шурка и пошел рядом. Сундучище‑то какой здоровенный! Ямщик поволок и даже крякнул. Ты слышала?
— Слышала. Там пряники?
— Обязательно. До отвала наедятся.
— У бабки Ольги зубов нет.
— Эка важность! Она в чаю их будет мочить.
Шурка съел пряник, а второй припрятал для братика и заторопился. Пора, давно пора на гумно за Ваняткой — как бы чего не случилось. Передал медяк на хранение Яшке, получил половину Олегова кренделя и сунул его в рот.
— Ты бы помаленьку… на дольше хватит, — сказала Катька, щуря зеленые глаза, и отвернулась.
Шурка послушался, стал есть маленькими кусочками. А Катька все не поворачивалась к нему.
— Крендель сдобный, — сказал Шурка.
— А мне наплевать, — ответила Катька и побежала прочь.
Шурка догнал ее, отломил от кренделя кусок и, таясь от ребят, сунул его Катьке в руку. Катька зажала кулачок, засмеялась.
— Приходи скорей к воротцам, — сказала она, — будем в коронушки* играть.
— Я живо, — обещал Шурка.
Как только он отбежал от ребят, ему стало страшно, что он так долго оставлял Ванятку одного на гумне. Он опять вспомнил про цыган и прибавил ходу.
«Проснулся, поди, и ревет, — думал он, изо всей мочи работая ногами. — Ну ничего, я пряником его утешу».
Подбежал к сараю и обмер…
Тележка опрокинута.
Братик исчез.
Глава V
СТРАХ И ЛЮБОВЬ
Упало сердце у Шурки. Ледяные букашки пробежали от головы до пяток. Руки и ноги отнялись. Стоит Шурка — рот раскрыл, глаза вытаращил. Так ему страшно, что он даже плакать не может, голоса нет.
И видится ему, как крадутся гумном к братику цыгане, черные, лохматые. Один мешок припас, другой палку наготове держит, третий по сторонам глазищами водит, настороже… Подобрались, огляделись — и хвать братика за ноги. В мешок его спрятали и веревкой завязали. Плачет братик, ножонками, ручонками шебаршит. Цыгане мешок подхватили — да в поле, из поля — в лес…
Все это так ясно представилось Шурке: и полосатый грязный мешок, захлестнутый веревкой, и красные рубахи — рукава засучены по локти, чтобы ловчее ребят хватать, — и широкие плисовые* штаны, заправленные в сапоги с подковками. Он слышит, как слабо и горько плачет Ванятка, задыхаясь в мешке, как скрипят и позванивают подковками не деревенские сапоги, и цыгане, переговариваясь по — своему, торопят друг друга.
— А — а! — закричал Шурка. — А — а–а!..
Он боится, как бы его самого цыгане не утащили. Неведомая сила отрывает его от земли. Он бежит прочь от сарая, падает и снова бежит.
У поленницы дров Шурка налетает на Марью Бубенец, жену Саши Пупы. Толстая, краснощекая, она роняет корзину с бельем, дает Шурке подзатыльник и сердито стрекочет:
— Разуй бельма! Чуть с ног не сбил, дьяволенок!
— Тетя Марья, — плачет Шурка, — братика… цыгане… украли!
Марья занесла ладонь, чтобы нашлепать Шурку, но рука у нее застыла в воздухе.
— Какие цыгане?
— Черные… трое… с мешком.
— Господи! С нами крестная сила! — Марья крестится, хватает березовое полено. — Где… Где цыгане?.. Да ты не врешь?
Шурка заливается слезами. Нет, он не врет. Он сам видел. Трое, черные, как сажей испачканы, в красных рубахах и плисовых штанах. В мешок братика посадили и побежали полем в Глинники.
— Так что ж ты не кричал? Ах, батюшки! Где же ты был? Ах, пресвятая дева! — трещит Марья Бубенец, размахивая поленом. — Моего дома нету… Мужиков позвать! Догонять, беспременно догонять… Господи! Куда они побежали?
Она вертит головой во все стороны, высматривает.
Но тихо и пустынно гумно. Ласково припекает солнышко, бродят сонные куры у огорода. И в поле никого нет.
Марья подозрительно косится на Шурку, примечает у него в руке пряник.
— Это что? Откуда?
— Я на минуточку… к воротцам… бегал, — запинаясь, признается Шурка.
— А братишка?
— Зде — есь был… в тележке спал.
— А цыгане?
— Схватили братика и… у — убежали.
— Ты видел?
Шурка молчит.
Марья бросает полено, ловит Шурку за ухо. Пальцы у нее что клещи. Шуркина голова начинает летать то вправо, то влево — света белого не видать. Все кружится, земля уходит из‑под ног. А Марья откуда‑то сверху безумолчно трещит — истинный бубенец.
— Испужал, стервец… все нутро перевернул, фу — у… Что выдумал, сопляк! Коли оставили нянчиться, по воротцам не шляйся. Потерял мальца?.. Вот тебе, вот! Постой, скажу матери ужо, пропишет она тебе цыган!
Не вырвись Шурка, напрочь бы оторвала Марья ухо. Ей, здоровячке, это ничего не стоит. Она трезвого Сашу Пупу ого как бьет! Зато пьяный Саша не дает ей спуску. Марья завсегда бегает от него топиться на Волгу. И хоть бы раз утопилась — только стращает.
До того болит у Шурки ухо — мочи нет. Наверное, ухо на липочке висит.
Он пощупал. Слава богу, целехонько. Но горит — не дотронешься. Надо бы зареветь, да некогда. Кажется, и вправду никаких цыган не было.
Зажав горящее ухо ладонью, возвращается Шурка к сараю, обследует тележку. Ну, ясно — братик, проснувшись, сам вывалился и уполз куда‑то.
— Ванятка! Ва — а–нечка! — зовет Шурка, бегая вокруг сарая. — Где ты там?.. На пряничек, Ваню — ушечка!
Прислушивается.
Так и есть, из‑под сарая откликается знакомое воркованье:
— Ба — а… бу — у… ба — а…
Шурка лезет под сарай и вытаскивает за рубашонку перепачканного землей братика.
От радости Шурка сам не свой. Он кувыркается, бодает братика головой, целует в грязные щеки.
— Золотенький ты мой… дорогунчик! На пряничек, на! — бормочет Шурка и любуется, как братик муслит пряник. — Что, скусно?.. Это, брат, питерский пряник, мятный. Кусай его зубом… вот так!
И вдруг Шурка вспоминает свой страх, все муки, которые он испытал минуту назад. Ухо начинает болеть пуще прежнего. Великая обида охватывает Шурку. Он вырывает у Ванятки пряник и плачет:
— У — у, пузанище несчастный!! Навязался на мою шею! Я тебе покажу, как без спросу под сарай лазить!
Ванятка закатывается смехом. Он думает, что с ним играют, и ловит ручонками пряник.
Не помня себя, Шурка бьет братика.
Теперь они вместе плачут, обоим больно.
Шурка плачет и горько жалуется, что вот и погулять ему нельзя, к воротцам сбегать не дадут, замучила мамка работой, хоть вешайся. И пузан этот нарочно под сарай заполз, издевается, даром что маленький. И никто Шурку не любит, никто не пожалеет. Все норовят ножку подставить. Кишкой вон прозвали. Один он на свете. Вот умрет, что без него будете делать?
А Ванятка плачет и все глядит на пряник. А солнышко светит ярко, весело. Набежало белое кудрявое облачко, и косая легкая тень скользит по траве. Она настигла желтую бабочку, прикорнувшую в тепле, на лопухе. Бабочка испуганно взвилась вверх, перегнала тень и блеснула на солнце золотым березовым листком, уносимым ветром. Над ригой по — прежнему кружат голуби, и Шурке кажется, что он различает в стае толстого сизяка, выпущенного им на свободу. Слышно, как за околицей, у воротец, кричат ребята — наверное, играют в коронушки.
Шурка вытирает рукавом мокрые щеки.
— Ладно, не реви, — хмуро говорит он братику. — На, лопай свой пряник.
Он еще немножко, прилику ради, сердится на Ванятку, что‑то ворчит, сажая в тележку. Еще побаливает ухо, но на душе светло и тихо. И думается только о том, как бы поскорей добежать к воротцам. А про цыган не надо сказывать ребятам — засмеют… Неужто Марья Бубенец нажалуется матери? А Катька, поди, ждет его не дождется. Они спрячутся вместе, и Шурка скажет Катьке одно очень важное слово.
Все выходит так, как хочется Шурке.
Когда он, громыхая тележкой, подъезжает к воротцам, игра в полном разгаре. Водит Колька Сморчок, и, должно быть, давненько: он потный, тяжело дышит. Одной рукой он придерживает штаны — они батькины, широкие, на бегу сваливаются. И хоть бы засучил, дурак, все легче бегать. Проводит он в этих штанах, как всегда, до самого вечера, пока ребятам не надоест играть.