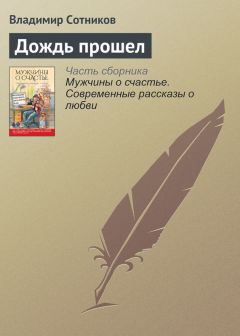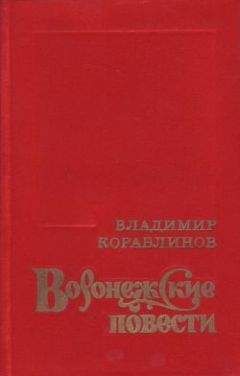Бернард Маламуд - Идиоты первыми
Ф. Я, пожалуй, путано говорю. Пожалуй, я хочу сказать вот что: нравственнее всего я себя чувствую, когда пишу, тогда я вроде бы как сопричастен истине.
Луд. Что вы все о своих чувствах. Не сочтите за грубость, маэстро, но вы мне засираете мозги, только и всего.
Ф. Послушайте, Лудовико, я вот чего не могу понять, не сердитесь на меня, но зачем вы тащили сюда эту махину, если вы только и делаете, что оскорбляете меня? Уберите-ка ее, не отнимайте у меня времени, мне надо работать.
Луд. Я, маэстро, вам в слуги не нанимался. Пусть обстоятельства и вынудили меня заняться физическим трудом, но Лудовико Бельведере никогда не терял достоинства. Раз вы американец, вы что думаете, вам позволительно попирать права европейцев? Вы вмешались в деловые отношения между этой бедной девушкой и мной, и в результате я терплю совершенно излишние неудобства в личной жизни и огорчения, вы серьезно испортили жизнь четверым людям. И судя по всему, даже не сознаете, сколько вреда причинили…
Конец интервью
Ф. Крушит магнитофон.
С каждым утром он просыпался все раньше, чтобы приступить к картине, ждал, когда развиднеется, хотя свет был рваный, никуда не годный. Последнее время надобности повседневной жизни — умыться, поесть, одеться, даже сходить в уборную — раздражали его сильнее и сильнее, и, что хуже всего, это нервическое раздражение уже сказывалось на работе. Обременительно стало вытаскивать холст из укромного места за шкафом, устанавливать на мольберте, выбирать, смешивать краски, прикалывать старый снимок (это труднее всего) и приступать к работе. Можно было бы закрыть холст на мольберте на ночь, а снимок вовсе не откалывать, но что-то понуждало его всякий раз после того, как он прятал краски, отмачивал кисти в скипидаре и наводил порядок, убирать снимок. Прежде, стоило ему взять в руки кисть и постоять, задумавшись, замечтавшись, а порой и забывшись, перед картиной, его отпускало — и он работал с наслаждением, а как-то даже писал чуть не целый час, и хотя нередко ограничивался всего одним-двумя мазками, самочувствие его улучшалось настолько, что он разрешал себе съесть полбулочки и выпить приготовленный Эсмеральдой эспрессо, а потом взять сигарету, журнал и удалиться в gabineto[75]. Но теперь нередко выпадали дни, когда он в ужасе стоял перед «Матерью и сыном», и стоило ему дотронуться до холста, как его начинала бить дрожь.
Обуреваемый тревогой, он писал в темном колорите. Картина почти не изменилась, мальчик каким был, таким и остался, непостоянное материнское лицо каждый день менялось, и каждый день он счищал его под доносящиеся из кухни Эсмеральдины стенания: она различала шуршанье мастихина по холсту. Тогда-то Фидельмана и осенило: попробовать написать маму с девчонки. Пусть ей всего восемнадцать, ну а вдруг, если написать маму в молодости с живой натуры, ему это поможет, хотя мама, когда Бесси сфотографировала ее, была уже в годах, ну и по характеру нисколько не походила на Эсмеральду, а вот поди ж ты, в искусстве такие парадоксы не редкость. Эсмеральда согласилась, разделась догола, но художник-сурово велел ей одеться: он собирается писать ее лицо. Она повиновалась и позировала ему терпеливо, покорно, с отсутствующим видом, безропотно, часами, и он перебарывал себя, потому что привык писать в одиночестве, и сызнова пытался вообразить лицо матери. Я выжал из воображения все, что можно, а уж из снимка и подавно. И хотя в конце дня Фидельман под причитания натурщицы счистил лицо, ему удалось ее успокоить, сказав, что его осенила новая мысль: писать не себя с мамой, а «Брата и сестру», заменив маму на Бесси. Эсмеральда рассмеялась: «Тогда ты перестанешь таращиться на снимок». Но Фидельман ответил: «Не совсем так», он по-прежнему не может обойтись без снимка — иначе ему не определить их соотношения, «как пространственно, так и психологически».
За ужином, когда они наворачивали спагетти, девчонка справилась: всем ли художникам приходится так туго.
— В каком смысле туго?
— Они что, тоже годами пишут одну картину?
— Кто — да, кто — нет. Что ты хочешь этим сказать?
— Ну, не знаю, — ответила она.
Он брякнул вилку на стол.
— Ты, подстилка, ты что, не веришь в мой талант?
Она встала, ушла в gabineto.
Фидельман валялся на кровати, черные мысли точно подушка навалились на него.
Чуть погодя Эсмеральда подошла к нему, поцеловала в ухо.
— Я не сержусь на тебя, tesoro[76], мне хочется, чтобы тебе повезло.
— Так и будет! — выкрикнул он и вскочил с кровати.
На следующий день Фидельман соорудил себе мальчишеский костюм — рубашонку, штанишки до колен — и встал в нем к мольберту в надежде глубже проникнуться духом прошлого, но и костюм не помог, и Фидельман снова писал Эсмеральду и каждый вечер снова счищал ее лицо.
Жить, писать картины, жить, чтобы писать картины, — и он вынужден был вырезать мадонн, но раздражение сказывалось, и он брался за них все более неохотно. Когда Эсмеральда объявила, что у них остался лишь соус, а спагетти они съели, он в три дня, не мешкая, вырезал мадонну и не мешкая отнес ее Паненеро. Но, увы, резчик не взялся ее пристроить.
— Мои подмастерья, — и он пожал плечами, — строгают мадонн пачками. По правде говоря, подражают вам во всем вплоть до мелочей и работают споро. Вот что сталось с искусством в наше время. Поэтому у нас мадонн навалом, а туристов до весны не предвидится. Покуда бранденбурги и lederhosen[77] доберутся к нам из-за Альп, маэстро, еще много воды утечет. И все-таки только ради вас и вашего искусства, а я от него в восторге, предлагаю две тысячи лир — хотите берите, хотите нет. У меня сегодня много дел.
Фидельман ушел, не говоря ни слова, и лишь некоторое время спустя неожиданно задался вопросом: чьи это желтые перчатки валялись у Паненеро на прилавке? Проходя по берегу Арно, он швырнул мадонну в реку. Взметнув золотистый фонтанчик, она упала в зеленую реку, ушла под воду, затем всплыла, повернулась на спину и заскользила вниз по течению, уставив глаза в голубое небо.
Позже он вырезал еще две мадонны, весьма искусные, и предпринял попытку продать их сам в лавчонках на виа Торнабуони и делла Винья Нуова. Куда там. Статуэтки святых стояли на полках впритык, правда, один лавочник предложил ему шесть тысяч лир за Мэрилин Монро, желательно нагишом.
— Мне такого рода вещи не удаются.
— Как насчет Иоанна Крестителя в косматых шкурах?
— В каком смысле?
— Дам пять тысяч.
— Мне он не представляется интересным как фигура.
Потом продавать статуэтки вызвалась Эсмеральда. Фидельман не разрешил ей отнести их к Паненеро, и девчонке пришлось торчать на пьяцца дель Дуомо, держа в обеих руках по Богоматери; в конце концов она продала одну за тысячу двести лир неохватному немецкому священнику, другую уступила за восемьсот лир вдове в глубоком трауре у Санта-Мария Новелла. Узнав об этом, Фидельман заскрежетал зубами и, хотя она умоляла его быть благоразумным, поклялся, что не вырежет больше ни одной статуэтки.
Он брался за любую работу, как-то раз нанялся в прачечную, но так там ухайдакивался, что вечером не мог писать. А однажды утром принялся копировать Рафаэля — рисовал мелками мадонну в синем одеянии с младенцем на тротуарах перед крещальней, Санта-Кьярой и Центральным вокзалом — там его чуть не арестовали. Прохожие останавливались, смотрели, как он работает, но стоило ему протянуть шляпу, они поспешно удалялись. Кое-кто бросал мелкие монеты на лик Богоматери, Фидельман подбирал их и переходил на другое место. Монах в коричневой сутане и сандалиях следовал за ним по пятам.
— Почему бы тебе не заняться каким-нибудь полезным делом?
— Советы — товар дешевый.
— И твои картины не дороже.
Он отправился в капеллу Бранкаччи и остаток дня провел там, созерцая в полутьме фрески Мазаччо[78]. Гениальные творения творят гении. А если у тебя нет великого дара, тебе предстоит нелегкий путь и шедевр родится разве что чудом. И все равно, так или иначе, чудеса в искусстве не редкость.
Фидельман занял удочку у жившего по соседству художника и стал ловить рыбу, затесавшись в ряды удильщиков на мосту Тринита. Он примотал удилище к гвоздю в перилах, поплавок подпрыгивал, а он ходил туда-сюда, то и дело кидаясь назад — проверить, не клюнуло ли. Ничего не поймал, но старик, удивший рядом, — он наловил восемь рыб, — подарил ему одноглазого хилого угорька. Ноябрьское небо затянули тучи, потом пошел дождь, на потолке мастерской проступили пятна сырости. Рога изобилия протекли. В доме было промозгло. Но раньше декабря Фабио нипочем не затопит. Согреться никак не удавалось. Зато Эсмеральда сварила из хилого угорька вкусный суп. На завтра она изловчилась занять пригоршню кукурузы и приготовила ужин — кипящая кукуруза с треском лопалась. На следующий день они пообедали черствым хлебом с луком, по половине луковицы на брата. Зато в воскресенье Эсмеральда подала на ужин отварное мясо, зеленые бобы и салат из свекольной ботвы. Фидельман что-то заподозрил, спросил, откуда взялось это изобилие, и она призналась, что перехватила несколько сот лир у Лудовико.