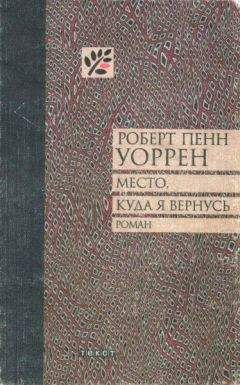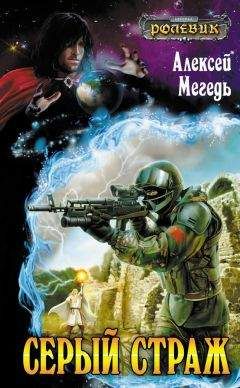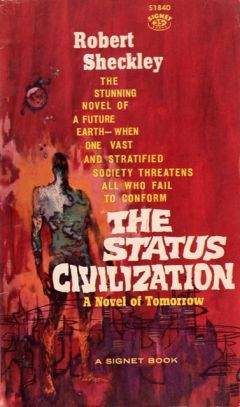Роберт Уоррен - Потоп
Она посмотрела на дым, кольцами вьющийся из сигареты.
— Знаешь, после того как он это сделал, она, видно, просто оцепенела, а он одёрнул ей платье, вытер своим носовым платком ей лицо, стал её отряхивать, ну как отряхивают ребёнка, который упал, — и всё время повторял одно и то же: «Простите… Простите… Вы никогда больше меня не увидите…»
Она затянулась сигаретой и выпустила изо рта неожиданно большое рваное облако.
— Господи, — сказала она, — представь себе её безжизненную, как кукла, и эти его громадные ручищи, которые её отряхивают. — Она раздавила сигарету в пепельнице. — Просто хоть плачь. Будь оно всё проклято!
Она закурила новую сигарету.
— Знаешь, — сказала она. — Я ведь слушала ту чёртову пластинку.
— Какую пластинку?
— «Континентальный», ту, что ты спьяну крутил как бешеный. Лежу, слышу эту пластинку и понимаю, что там заело, заело уже давно. Понимаю, что там происходит что-то нехорошее. Надо было мне тут же встать и спуститься вниз. Я ведь знала, что надо, чёрт бы меня побрал, в глубине души это знала… но ты… — Она осеклась.
— Что я?
Она кинула на него испытующий взгляд, потом отвернулась и смяла только что закуренную сигарету.
— Ладно, чего уж тут, — сказала она, глядя в пепельницу. Потом разом повернулась и посмотрела ему в глаза. — И вот я не встала, и так оно и случилось, — сказала она, — поэтому мне надо было хотя бы попытаться что-то наладить, верно?
— Конечно…
— Я и попыталась. Рассказала ей о нас с тобой.
Он слышал слова, но не понимал их смысл. А потом вдруг понял, но смысл тонул в пустоте, не имея связи с чем бы то ни было, и поэтому его всё равно что не было. Он поглядел в дождливую даль. Перед ним возник мимолётный образ: он увидел, как там, далеко, он голый одиноко съёжился на плоской земле под серой бесконечностью дождя.
— Мне надо было что-то сделать, — продолжала Летиция, — чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. Она чуть было не написала Калвину письмо, чуть было не убежала куда глаза глядят. Я сказала, что не советую рассказывать Калвину и так далее. Она знает, как он к этому отнесётся, и ей надо было решить, что делать. Но я ей всё рассказала о том баске, почему это произошло. И я рассказала ей…
Она не сводила с него странного, нежного, словно обволакивающего его взгляда.
— Что ты ей рассказала? — резко спросил он.
Она нагнулась, положила руку ему на руку, лежавшую на столе, и поглядела на него тем же мягким, сияющим взглядом.
— Ну да, что я могла рассказать? Что? Я ей рассказала, как мы были счастливы.
Она встала. И как бы между прочим сказала, что пообещала Мэгги поговорить с Калвином. Она или Бред сделают это, конечно, после того, как Мэгги поговорит сама. К несчастью, они несут за это дело ответственность, так что ничего не поделаешь. Быть может, им удастся в какой-то мере отвлечь гнев на себя.
Она задумчиво постояла посреди комнаты.
— Правда, ты самый близкий его друг, — сказала она, — но, может, поговорить с ним лучше мне. На него сильно подействует, если это расскажет ему дама, — он ведь из ваших южных джентльменов, а тут вдруг дама возьмёт да и выложит ему запросто всё как есть своими словами.
Она пошла к двери и, уже держась за ручку, добавила:
— Он, конечно, доктор и всё такое, но, по-моему, не очень-то разбирается в…
Она сделала широкий жест, охватывающий и весь мир снаружи, где шёл дождь, и комнату, где на неё устремлён его тяжёлый взгляд из-под опущенных век.
— …том, что к чему, — закончила она.
Закрывая дверь, она вдруг улыбнулась ему с той же обволакивающей нежностью, с тем же ласковым, затуманенным взглядом.
Он посмотрел на закрытую дверь и почувствовал себя зрелым и многоопытным. Он-то знает что к чему, сказал он себе.
А теперь, почти двадцать лет спустя, он смотрел сквозь оконную сетку в летнюю тьму, где мерцали огоньки сигарет, и понимал, что не знает что к чему.
… потому что, когда вдруг делаешь то, чего от себя никак не ждал, это всё равно, будто ты, каким сам себя представлял, вовсе и не ты. Если ты сделал что-то ужасное, тебе плохо, а я в то время считала, что весь ужас в том, что я сделала. Но с тех пор у меня было много лет, чтобы об этом поразмыслить, и я решила, что самое ужасное в этом ужасном — это то, что ты больше не знаешь своей сути, больше не ощущаешь себя и тебе тошно оттого, что всё уже не в фокусе, не в равновесии, как будто у тебя вестибуляр не в порядке.
Помню день, когда мне впервые пришла эта мысль, мысль о том, что бывает ужас пострашнее. Это было гораздо позднее, уже после того, как умер Татл и Калвин сел в тюрьму навсегда. До этого я цеплялась за мысль: как ужасно то, что я сделала, — и, казалось, я только этой мыслью и живу, ведь чем-то надо жить! Но когда я обнаружила, что за тем, что я натворила, кроется нечто ещё более страшное, мне показалось, что жить я больше не могу. Ведь как жить, если тебя нет — кому же тогда жить?
Но возвращаясь назад, к той неделе перед приездом Калвина, когда до меня начал доходить весь ужас того, что я наделала, ко мне зашла Летиция и рассказала о том, что сделала она, — о себе и маленьком майоре-баске или кто там он был. Она хотела, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой. Но на меня это произвело совсем другое впечатление — ведь я думала, что они с Бредом, их любовь друг к другу так прочна, о ней можно только мечтать, ведь мне, как я уже говорила, их любовь тоже обещала счастье, и вдруг она мне рассказала, что как раз в ту самую ночь, когда Бред повёз меня в ресторан из Ворд-Бельмонта и я с ним танцевала, думая о нём и о ней, она спала с тем маленьким баском.
Я вам рассказывала, как это случилось, и вы, по-моему, все поняли, но я не хочу, чтобы вы думали, будто Летиция себе это простила. Она пыталась внушить мне, хотя ей нелегко было вспоминать то, что тогда произошло: что твоё «я» ты должен вылепить из всей зыбкости и ломкости жизни. Наверное, кое-что до меня дошло, но главное, что я тогда почувствовала, это отвратительное скольжение без всякой опоры, помимо которого нет ничего, а я не умею его даже определить. Поэтому когда в ту субботу после обеда я в первый раз за всю неделю вышла в город, мне показалось, что весь Фидлерсборо — и люди и вещи плывут и скользят у меня перед глазами.
Но я знала, что мне надо выйти и взять себя в руки, чтобы подготовиться к завтрашней встрече с Калвином. Я выпила кока-колы с лимоном в аптеке Рексолла и помню, как я смотрела поверх своего стакана в зеркало напротив сатуратора — вы знаете, какие в этих местах бывают засиженные мухами, тусклые, треснутые зеркала, — а над ним большой деревянный вентилятор, едва шевеливший воздух, я видела в зеркале своё лицо и думала: я ли это? Смешно, но почему-то мне стало ещё тяжелее оттого, что мой поступок ничуть не изменил моего внешнего вида. Почему-то у меня появилось ощущение, что в мире нет ничего настоящего. Потом я купила киножурнал, совсем как девочка из Ворд-Бельмонта — а я именно так и выглядела, — и вышла на улицу. Было около половины четвёртого. Погода снова прояснилась, солнце сияло, и после сырой полутьмы аптеки я даже зажмурилась.
В таких городах, как Фидлерсборо, раньше, да и теперь по субботам собираются гуляки, такие, например, как шофёр грузовика, мнящий себя пижоном, потому что в субботу постригся и побрился, напомадил волосы бриллиантином и вырядился в белую рубашку. Или парочка прощелыг-фермеров, которые прохлаждаются, пока их жёны выгадывают гроши в универмаге, а когда стемнеет, ждут своих мужей в старом «пикапе», где, укутанные в ветхое стёганое одеяло, спят на досках их дети. Или один-два страшных старика с мутными глазами и лиловыми брылами, похожими на опухоли, из тех, кто вечно шатается полупьяный и рассказывает мальчишкам непристойные анекдоты. И два-три взрослых парня с ножами, у которых выскакивает лезвие в кармане, — их ещё зовут пёрышками. Ну, вы же сами знаете, как всё это ужасно и какая это тоска.
Прежде по субботам они начинали в парикмахерской, выпивали там и играли в кости. Потом рассаживались на корточках на улице у парикмахерской, сплёвывали, болтали, приставали к прохожим. Когда темнело, они перебирались в заднюю комнату бильярдной. Теперь, когда в Фидлерсборо нет больше ни парикмахерской, ни бильярдной, эта компания или те, что ещё здесь остались, толкутся и пьют в ресторане, потом вываливаются в переулок, где кидают кости под уличным фонарём, или залезут в заброшенный магазин и дуются в карты при свете двух-трёх больших квадратных фонариков, которые у нас зовут лягушачьими острогами, потому что браконьеры когда-то охотились с ними по ночам в болотах.
В ту субботу днём, тысячу лет назад, я, в сущности, и не заметила эту компанию, рассевшуюся на корточках у стены бильярдной. Они были там как камни, как деревья, как часть Фидлерсборо. Я постояла минутку, зажмурясь от солнечного света. На улице было пусто. Я зажмурилась снова. А потом на улице уже не было пусто.