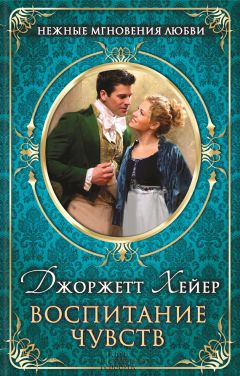Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств»
От разрушенных дворцов с опустошенными перистилями к нему долетают умолкнувшее эхо празднеств, чей гул отдавался под этими сводами, и отблеск светильников, озарявших древние стены; на заброшенных песках ему видимы следы гигантских волн, что колыхались там когда-то, неся на своей груди затерянных ныне чудовищ вместе с огромными перламутровыми и лазурными раковинами; он грезит о забытых любовных игрищах, коим предавались лежащие ныне в старинных гробах, и о грядущей агонии тех, кто сегодня еще с улыбкой выглядывает из своей колыбели.
Симпатия, слышащая отзвук чужого страдания, милосердие, на чьих весах взвешиваются страсти, скептицизм, что роется в фактах, доходя до дна, — все это не чуждо ему, когда он созерцает жизнь, окидывая ее спокойным взглядом, и, чтобы лучше вникнуть в смысл сущего, призывает в свидетели подноготную каждого исторгнутого звука, замысел всех устремлений человеческих, следы Божества во всем, что осталось неподвластно разумению, и душу всякой мечты. На его зов стекается ни более ни менее как мироздание, а он, сидя в стороне на одиноком фоне, как король, принимающий под свою руку новые племена, отвлекается от скорбей, разглядывая серебряное шитье балдахина над головой, или улыбается шуточкам, вызванным к жизни людским столпотворением, и отблеску вселенской иронии, что витает над морем голов.
Прерывая чреду эмоций, способных смутить дух, он умеет раздуть в себе чувственность, необходимую для творчества; реальное существование снабжает его случайными подробностями, а он сам порождает нетленное; то, что дает ему жизнь, он препоручает Искусству, все стекается к нему и через него воплощается: мировая волна накатывает, чтобы могли отхлынуть волны его переживаний. Бытие творящего следует извивам его же мысли, будто одежда облекает тело, он пользуется соками реальности, словно собственными жизненными силами, строя себя из ее материала: все принадлежит здесь ему одному, а сам он — лишь своему призванию, миссии, року, которому художника обрекает его же гений заодно с постоянными трудами — в пантеистическом синтезе все проходит через него и претворяется в Искусство.
Сделавшись органом, вызванным к жизни подобной необходимостью, чье бытие расположилось под знаками труда и гения, он стал относиться к себе нечванливо и без снисходительности. Он чувствовал, что меж вдохновением и работою творца ему уделено не слишком почетное место! Если впредь он и будет замечать свои таланты, то лишь в сопоставлении с чужими дарованиями, ибо восхищаться стоит не самим творцом, но тем прекрасным, что у него получилось. Жюль еще горячее возлюбил свои замыслы, но о готовых вещах и думать почти забыл, перестав печься об их судьбе, коль скоро они уже созданы, как ранее его не слишком заботило их рождение. Более всего наслаждаясь удовлетворением от работы ума, созерцая задуманные творения и находя, что теперь они ему по росту, он едва вспоминал о славе, а если подчас и сожалел о медлительности ее прихода, то лишь потому, что она, как он полагал, довершает картину величия, что-то к нему прибавляя, а он считал себя обязанным послужить людям, от которых так много получил, проникнуть в их души, сродниться с их мыслями, с их существованием и побудить их чтить то, что почитал он сам, с готовностью загораться от того, что опаляло его дух. А успех, зачем он? Разве песнь жаворонка становится менее прекрасной, если ее никто не слышит? Или запах цветов не так сладостен в безлюдных местах, где он не достигает ничьих ноздрей, изливаясь прямо в воздух и поднимаясь к небесам?
Не заботясь о прославлении своего имени, равнодушный к хуле, клубящейся вокруг него, и к похвалам, если только считал, что мысль передана именно так, как задумана, он выполнил должное, и резец хорошо потрудился над мраморной глыбой, он больше ни к чему не прилагает стараний, все прочее занимает его постольку поскольку. Он сделался серьезным и крупным мастером, которому не изменяет терпение, а его понятия об идеале уже не предполагают никаких поблажек; изучая форму великих предшественников и черпая в себе то, чем надобно ее наполнить, он, как теперь выяснилось, естественным образом добился и новой манеры, и настоящей оригинальности.
Стиль его краток, точен и берет за живое, он разнообразен и потому гибок; что до совершенства и правильности речи, без них его страстность не обрела бы такой притягательности.
Почти совсем оставленный своим приятелем Анри и сам его покинув, наедине с собой, без советчиков, без душевных излияний, без слушателя и наперсника, Жюль, если хочет проверить, гармоничны ли его стихи, читает себе сам, раскачиваясь в их ритме, словно ленивая принцесса в шелковом гамаке. Когда он желает увидеть, каковы его драмы на подмостках, то закрывает глаза рукой, и воображение рисует ему огромный зал, высокий, обширный, заполненный публикой сверху донизу; он облекает действие своей пьесы всем великолепием постановки, поистине сказочными декорациями, с музыкой, чтобы звучали хоры, и причудливыми танцами, ищущими ритма в звучании его фраз; он воображает актеров в статуарных значительных позах, слышит их мощные голоса, произносящие его громоподобные тирады или вздыхающие, повествуя о любви. Потом он приходит в себя, с волнением в сердце, с улыбкой на устах, как после празднества, словно и впрямь побывал на величественном представлении.
Кстати, о представлении, дорогой читатель, не вставай пока с кресла: я еще не довел свое до конца, хотя уже сожалею, что тебе доставит менее удовольствия его досматривать, нежели мне — приводить в движение мои персонажи, а на будущее я бы тебе пожелал, коли окажется нечем себя занять, досуга столь же безмятежного, как те часы, что я провел, пачкая чернилами эти листы.
Ну же, ну, быстрее! Пусть пьеса кончится должным образом и без задержек! Расставим всех персонажей в кружок у задника сцены. Вот они уже там, держатся за руки, готовые произнести последнее слово перед тем, как падет занавес и погаснут светильники.
Прежде всего, как там поживает мадам Рено? Что с ней?
Ее супруг теперь — настоящий хозяин пансиона, то есть простой торговец супом и латынью; старый дом он продал, отрекся и от особой системы обучения, зато приобрел обширное здание, где принимает питомцев за более скромную плату, а потому его заведение, утратив свой, как мы помним, благородный характер, на новом месте преобразилось в более обыкновенное и общедоступное. Там нет уже обеденной залы, вместо нее — столовая с крашенной суриком мебелью и полом, который драют по субботам; нет и сада, но можно поиграть во дворе, квадратном, посыпанном песком, где посажены шесть чахлых тополей, на коре которых школяры выцарапывают свои имена. Гостиной нет тоже, да и к чему ей тут быть? Мадам посиживает у себя в комнате, а занятиями «старших» руководит сам хозяин дома. Эмилия уже не блистает яркими туалетами, никогда не бывает в театре и никого не принимает. На весь день затворившись в своих апартаментах, она и к трапезе далеко не каждый раз выходит, более того, внушила супругу, что ей необходима заслуживающая доверия дама, чтобы следить за бельем и причесывать маленьких, каковое занятие ее самое отнюдь не прельщает. Каждое воскресенье она ходит к мессе.
Затраты на дом стали теперь гораздо меньше: званых вечеров больше не дают, поскольку пансиону это может повредить. Мсье Рено целиком посвятил себя делу, сам водит учеников в коллеж, а пройтись выходит только по вечерам, когда они улягутся спать, видно, чтобы подышать воздухом: этой привычке он не изменяет никогда.
Чета живет, не ссорясь, в полном согласии, как и в начале нашего повествования.
Сколотил ли мсье Рено приличное состояние? Мне это неведомо. Завела ли мадам Рено нового любовника?[109] Понятия не имею.
Ее подруга Аглая вышла замуж за врача, живущего под Парижем, его соблазнили ее итальянские каватины и томные ужимки великосветской дамы. Он все еще влюблен в супругу, хотя она его дьявольски злит и изводит. Все, что он зарабатывает, она без всякой жалости тратит. Бедняга день и ночь скачет по грязным дорогам, в мыле, рискуя сломать себе шею, а мадам, устроившись перед жарко натопленным камином на премиленькой софе, листает модный роман или приглашает местных дам к себе на чай с пирожными. Она часто выезжает в Париж только для того, чтобы пойти на концерт и посмотреть, что нового творится в искусстве. Аглая остается там на неделю одна со своею горничной (ибо теперь ей понадобилась горничная). Как и встарь, она наносит долгие визиты Эмилии и, по всей вероятности, развлекает подругу признаниями, какие ранее сама от нее выслушивала. Прежним своим воздыхателем, бедным Альваресом, она, конечно, давно позабыта, даром что прошло не так уж и много времени с тех пор, как молодой человек едва не помер от тоски.
Он же, как и приятель его Мендес, возвратился на родину, в Лиссабон. Едва высадившись, Альварес влюбился в одну из своих кузин, сироту-бесприданницу, чьим попечителем был его отец. Он ее любит, как бешеный, хотя она очень некрасива, и хочет обязательно жениться, невзирая на ее бедность; семейство впало от этого в большое уныние, но ни призывы к благоразумию, ни советы не помогают, не возымели действия и подкрепленные примерами доводы рассудка, это — навязчивая идея. Он обожает свою избранницу, сходит по ней с ума и уперся, как осел: ничто не заставит его ослабить хватку, ибо душа его очень нежна и столь же тупа.