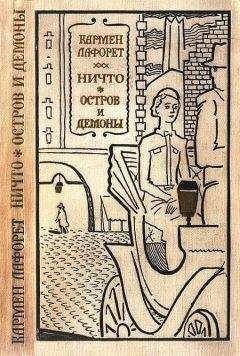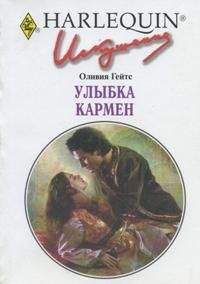Ги Мопассан - Милый друг
Гул все прибывавшей толпы нарастал под сводами храма. Иные разговаривали почти громко. Перед публикой, довольные тем, что все на них показывают друг другу, что все на них смотрят, уже рисовались знаменитости: тщательно следя за своими раз навсегда выработанными манерами, считая себя необходимым украшением этого сборища, своего рода художественным изделием, они и здесь блистали так же, как на всех других празднествах.
— Дорогой мой! Вы часто бываете у патрона, — продолжал Риваль. — Скажите, правда ли, что госпожа Вальтер не разговаривает с Дю Руа?
— Правда. Она не хотела выдавать за него свою дочь. Но Дю Руа держал отца в руках якобы благодаря тому, что проведал о каких-то трупах — трупах, похороненных в Марокко. Короче, он запугал старика чудовищными разоблачениями. Вальтер вспомнил о судьбе Ларош-Матье и немедленно уступил. Но мать, упрямая, как все женщины, поклялась, что никогда словом не перемолвится со своим зятем. Когда они вместе, на них нельзя без смеха смотреть. Она похожа на статую, статую Мщения, а он чувствует себя очень неловко, но виду не подает, — кто-кто, а уж он-то умеет владеть собой!
С ними здоровались литераторы. Долетали обрывки политических разговоров. А во входную дверь, точно отдаленный, глухой шум прибоя, вместе с солнцем врывалось гудение толпы, сгрудившейся возле церкви, и, поднимаясь к сводам, покрывало сдержанный говор избранной публики, собравшейся в храме.
Но вот привратник три раза стукнул в деревянный пол алебардой. Все обернулись, задвигали стульями, зашелестели платьями. А в дверях, озаренная солнцем, показалась молодая девушка под руку с отцом.
Она по-прежнему напоминала куклу — чудную белокурую куклу с флердоранжем в волосах.
На несколько секунд она задержалась у входа, затем шагнула вперед — и в тот же миг послышался рев органа, своим мощным металлическим голосом возвещавшего появление брачущейся.
Прелестная, милая игрушечная невеста была слегка взволнована и шла, опустив голову, но при этом ничуть не робела. Дамы, глядя на нее, улыбались, шушукались. «Она обаятельна, обворожительна», — шептались мужчины. Вальтер шествовал бледный, преувеличенно важный и внушительно поблескивал очками.
Свиту этой кукольной королевы составляли четыре ее подруги, все в розовом, все до одной красотки. Четыре шафера, искусно подобранные, вполне соответствовавшие своему назначению, двигались так, словно ими руководил балетмейстер.
Госпожа Вальтер следовала за ними под руку с отцом другого своего зятя, семидесятидвухлетним маркизом де Латур-Ивеленом. Она не шла — она еле тащилась; казалось, еще одно движение — и она упадет замертво. При взгляде на нее можно было подумать, что ноги у нее прилипают к плитам, отказываются служить, а сердце бьется в груди, точно пойманный зверь о прутья клетки.
Она исхудала. Седина подчеркивала бледность, покрывавшую ее изможденное лицо.
Она смотрела прямо перед собой, чтобы никого не видеть и, быть может, чтобы не отвлекаться от мыслей, терзавших ее.
Затем появился Жорж Дю Руа с какой-то пожилой, никому не известной дамой.
Он высоко держал голову и, чуть сдвинув брови, смотрел тоже прямо перед собой сосредоточенным и строгим взглядом. Кончики его усов грозно торчали вверх. Все нашли, что он очень красив. Его горделивая осанка, тонкая талия и стройные ноги обращали на себя всеобщее внимание. Фрак, на котором красным пятнышком выделялась ленточка ордена Почетного легиона, сидел на нем отлично.
Затем все увидели Розу с сенатором Рисоленом. Она вышла замуж полтора месяца назад. Граф де Латур-Ивелен вел под руку виконтессу де Персмюр.
Шествие замыкала пестрая вереница приятелей и знакомых Дю Руа, которых он представил своей новой родне, — людей, пользовавшихся известностью в смешанном парижском обществе, людей, которые мгновенно превращаются в близких друзей, а в случае нужды и в четвероюродных братьев разбогатевших выскочек, — вереница дворян, опустившихся, разорившихся, с подмоченной репутацией или, еще того хуже, женатых. Тут были г-н де Бельвинь, маркиз де Банжолен, граф и графиня де Равенель, герцог де Раморано, князь Кравалов, шевалье Вальреали и приглашенные Вальтера: князь де Герш, герцог и герцогиня де Феррачини и прекрасная маркиза де Дюн. Родственники г-жи Вальтер, участвовавшие в этой процессии, хранили чопорно-провинциальный вид.
А орган все пел; блестящие горла труб, возвещающие небу о земных радостях и страданиях, разносили по всему огромному храму рокочущие стройные созвучия.
Тяжелую двустворчатую дверь закрыли, и в церкви сразу стало темно, словно кто-то выгнал отсюда солнце.
На амвоне перед ярко освещенным алтарем рядом с женой стоял на коленях Жорж. Вновь назначенный епископ Танжерский, в митре и с посохом, вышел из ризницы, дабы сочетать их во имя господне.
Задав им обычные вопросы, обменяв кольца, произнеся слова, связывающие как цепи, он обратился к новобрачным с проповедью христианской морали. Долго и высокопарно говорил он о супружеской верности. Это был высокий, плотный мужчина, один из тех красивых прелатов, которым брюшко придает величественный вид.
Чьи-то рыдания заставили некоторых обернуться. Это, закрыв лицо руками, плакала г-жа Вальтер.
Она вынуждена была уступить. Что же ей оставалось делать? Но с того самого дня, когда она, отказавшись поцеловать вернувшуюся дочь, выгнала ее из комнаты, с того самого дня, когда она в ответ на учтивый поклон Дю Руа сказала: «Вы самый низкий человек, какого я только знаю, не обращайтесь ко мне никогда, я не буду вам отвечать», — с того дня вся жизнь стала для нее сплошной нестерпимой пыткой. Она возненавидела Сюзанну острой ненавистью: это было сложное чувство, в котором безумная любовь уживалась с мучительной ревностью, необычайной ревностью матери и любовницы, затаенной, жестокой и жгучей, как зияющая рана.
И вот теперь их венчает епископ, венчает ее дочь и ее любовника, венчает в церкви, в присутствии двух тысяч человек, у нее на глазах! И она ничего не может сказать! Не может помешать этому! Не может крикнуть: «Он мой, этот человек, он мой любовник! Вы благословляете преступный союз!»
Некоторые дамы растроганно шептали:
— Как тяжело переживает бедная мать!
— Вы принадлежите к избранным мира сего, к числу самых уважаемых и богатых людей, — разглагольствовал епископ. — Ваши способности, милостивый государь, возвышают вас над толпой, вы пишете, поучаете, наставляете, ведете за собой народ, и на вас лежит почетная обязанность, вы должны подать благой пример...
Сердце Дю Руа преисполнялось гордости. Все это один из князей римско-католической церкви говорил ему! А у себя за спиной он чувствовал толпу, именитую толпу, пришедшую сюда ради него. У него было такое чувство, будто некая сила толкает, приподнимает его. Он становится одним из властелинов мира — он, он, сын безвестных жителей Кантле!
И вдруг он ясно представил себе, как его отец и мать в своем убогом кабачке на вершине холма, под широкой руанской долиной, прислуживают своим односельчанам. Получив наследство Водрека, он послал им пять тысяч франков. Теперь он пошлет им пятьдесят, и они купят себе именьице. Они будут счастливы и довольны.
Епископ закончил свое напутственное слово. Священник в золотой епитрахили прошел в алтарь. И орган снова принялся восславлять новобрачных.
Порой у него вырывался протяжный, громоподобный вопль, вздымавшийся, как морской вал, такой могучий и такой полнозвучный, что казалось, будто он сейчас поднимет и сбросит кровлю и разольется в небесной лазури. Этот дрожащий гул наполнял собой храм, повергая в трепет тела и души. Потом он вдруг затихал, и тогда, словно ласковое дуновение ветра, касались слуха легкокрылые нежные звуки. Бездумные, грациозные, они то рассыпались мелкой дробью, то взлетали и порхали, как птицы. И столь же внезапно эта кокетливая музыка, подобно песчинке, которая превратилась бы в целый мир, ширилась вновь и разрасталась в грозную силу, грозную в своем мощном звучании.
Затем над склоненными головами пронеслись человеческие голоса. Это пели солисты Оперы — Вори и Ландек. Росный ладан струил свое тонкое благоухание, а в алтаре между тем совершалось таинство: богочеловек по зову своего служителя сходил на землю, дабы освятить торжество барона Жоржа Дю Руа.
Милый друг, стоя на коленях подле Сюзанны, склонил голову. В эту минуту он чувствовал себя почти верующим, почти набожным человеком, он был полон признательности к божественной силе, которая покровительствовала ему и осыпала его богатыми милостями. Не сознавая отчетливо, к кому он обращается, он мысленно славил ее за свое благоденствие.
Когда служба кончилась, он встал, подал жене руку и проследовал в ризницу. И тут нескончаемой вереницей потянулись к нему поздравители. Жорж был вне себя от радости, — он воображал себя королем, которого приветствует народ. Он кланялся, пожимал руки, бормотал незначащие слова. «Я очень тронут, я очень тронут», — отвечал он на приветствия.