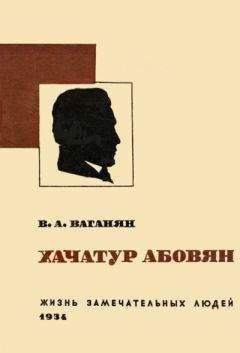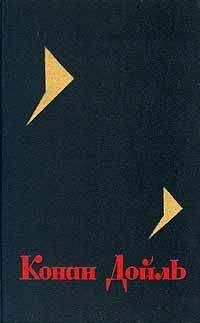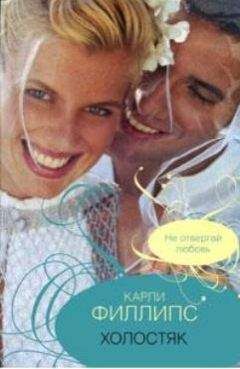Хачатур Абовян - Раны Армении
Как друг, как небесный ангел-благовестник, с венцом свободы и милосердия, вступил князь Паскевич в сардарский дворец. Проходя, в тысяче мест должен он был сам сдерживать слезы, видя, как старики, дети, девушки, старухи не только у него ноги целуют, но бросаются на шею солдатам и замирают у них на груди в душевном умилении.
С тех пор, как Армения потеряла свою славу, с тех пор, как армяне вместо меча подставляли врагу свою голову, не видели они такого дня, не испытывали подобной радости.
Эчмиадзинские епископы, находившиеся в крепости, вконец уже изнуренные, вышли с одной стороны, священники и дьячки Шахара и Конда — с другой, и все земно кланялись, казалось, вновь поднялся храбрый Вардан или Трдат вновь едет из Рима освободить родную страну, даровать своему народу новую жизнь.
Сципион Африканский, видя дым и сожженные, разрушенные дворцы Карфагена, закрыл глаза, — он плакал, сокрушался, что зверский нрав римлян испил их кровь и тем утолился. Паскевич смотрел на встающий перед ним Масис и в радости утирал слезы, припоминая историю Тиграна, Вагаршака, Ганнибала, Трдата, — их образы вставали перед его глазами. Их бессмертные души, сияя небесным светом, явились к нему, витали над ним, улыбались, изумлялись, говорили:
— Посмотри на созвездие Гайка. В этой светлей, в этой лазурной книге записано твое имя, спаситель сынов наших. В нее внесли мы свидетельство твоего великого подвига. Возле Гайка, на лоне Просветителя увидимся мы с тобою. А ныне — храни нашу страну.
Сыны Гайка кланялись ему, бесхитростный армянский язык благословлял его жизнь. Святая армянская земля раскрыла свое сердце, чтила его, поклонялась ему.
Паскевичу суждено было смыть грязь с имени Ереванской крепости и своим именем вновь окрестить ее, стать для ереванцев, для великого армянского народа на веки вечные отцом, покровителем. Какое сердце при этой мысли не вознесется, не возвеличится? Какие глаза в этот час, при звуках стольких благословений и радости, смогут остаться равнодушными, удержаться и не превратиться в море слез?
Он стал солнцем Армении, — русские, наподобие планет вращаясь вокруг него, принесли с собою новую жизнь. Как можно было об этом думать и молчать? Как этот храбрый исполин мог и сам не растрогаться?
Гасан-хан лежал у его ног, — ждал своей последней минуты. Но тот не уподобился Сципиону, угождавшему жестокому нраву своего народа, не попрал его, но в согласии с благородной русской душой обнял — такого безбожного разбойника — и приказал проводить с почетом, чтобы тот уехал и еще лучше познал, насколько милосердна и могущественна русская держава.
Не было у русских темной души, чтобы такого человека как Наполеон, когда положился он на великодушие победителя, посадить на корабль и отправить в океан кончать там свои горькие дни, — нет!
Русские показали ныне врагу своему, — даже столь презренному, — что куда бы ни ступала их нога, везде должны быть счастье и мир.
Гасан-хан подставлял голову под шашку, персы падали ниц, чтоб их попирали ногами, но беспримерный герой Паскевич одного с почестями отправил в Тифлис, к другим проявил милосердие и великодушие.
Если же европейцы разорили Америку, сравняли ее с землей, — русские восстановили Армению, грубым, зверским народам Азии сообщили человеколюбие и новый дух. Как же богу не сделать их меч острым, как истории не боготворить Паскевича, как возможно армянам, пока дышат они, забыть деяния русских![187]
13Но, ах, любезный читатель! Столько событий произошло, — спроси же, где остался наш несчастный, с сокрушенным сердцем, Агаси. Почему не идет он исполнить свою мечту, освободить несчастного, дошедшего до порога смерти отца, получить от него благословение, прощения попросить за то, что тот столько мучений и страданий перенес из-за него, что пять лет изнемогал, иссыхал в тюрьме, тысячу раз доходил до края могилы и вновь возвращался для того лишь, чтобы увидеть своего сына, исполнить свое заветное желание, — так сойти в землю, чтобы не осталось на сердце горя, чтобы могила не стала для него адом кромешным.
В крепости и кругом нее яблоку негде было упасть, — народ так и валил. Что ни глаза — то радость и слезы, что ни уста — то хвала и благословения. Родственники, друзья то и дело замирали друг у друга в объятьях. Уже не язык, а одни слезы охлаждали их сожженные сердца.
Горы и ущелья возрадовались, сады и огороды ликовали, видя, что хозяева их пускаются в обратный путь и сейчас придут их обновить.
В крепостных воротах и в улицах гулко отдавались топот ног и радостные крики.
Русские часовые заняли все посты, народ стал мало-помалу расходиться. Но сколько же было там, по милости Гасан-хана, ослепленных, искалеченных, без рук и ног! — Все они столпились у крепостных ворот, — ждали, что на скончании горестных своих дней обретут хоть какое-нибудь просветление, милосердие, покой!
Между тем преосвященный Нерсес под руку с Сааком-агой обходил крепость по верху башен и стен и ему казалось, что с небес озирает он ереванскую равнину, что только теперь открылся его глазам рай, что лишь сейчас кончился потоп, что теперь лишь сошел с неба единородный сын — принести спасение своему праведному, любимому армянскому народу.
Прошедшие времена, как сон, вставали перед его глазами. Он не знал, что это перед ним — Ереван или Тифлис? В тех закоулках, ущельях, где глаз его привык видеть черные лица персов, теперь сидели врассыпную русские, — кто не почел бы это сном или чудом?
Погруженный в такие думы, он окинул полным вдохновения взором, из-под густых бровей, Зангу и в отрешенности оперся на жезл, как вдруг сзади него кто-то приятным голосом воскликнул: — Святой отец, родимый! — и прижал его руку сначала к груди, потом к лицу.
Мужественный пастырь обмер.
— Святой отец, родимый, преосвященный владыка, — что за день! — воскликнул кто-то с другой стороны, прижимая другую его руку к губам.
— Смбатов-джан, Ерусалимский[188]-джан! Дети мои! Похороните меня после этого своими руками! Ежели бог дарует мне еще несколько дней жизни, то пусть для того дарует, чтоб я мог исполнить заветное желание измученного моего сердца — вернуть наш бедный, рассеявшийся народ обратно в свою страну. Пусть и это событие увидит мой истосковавшийся взор, а потом, ах, потом сойду в святую землю Армении.
Просите, дети мои, и радуйтесь, радуйтесь и просите, дети мои родные, чтоб и эту мольбу вашего старика-отца исполнил господь! — больше я ничего не желаю.
Армения, Армения, дай мне свое сердце, дай и могилу!
И если новые народы будут приходить и уходить, — то ты не забудь мучений и страданий черных, горестных своих дней. Стой и остерегайся. Любовно храни бедных своих детей, впредь сынов своих в плен не отдавай, — прикасаюсь лицом к святой земле твоей, прекрасная Армения, престол господен, дом потомков Аршака[189]!
Но откуда же и как прилетели вы, сыновья мои дорогие, повидать свою родину? — с удивлением спросил наконец преосвященный, утирая при этом слезы и прижимая к груди своей головы этих благородных гайканцев. — Ну, скажите же, успокойте меня. Я тосковал по вас, я желал вас, именно вас, чтобы в этот день постигли вы мое сердце, разделили со мною радость, дети дорогие, доблестные отпрыски народа армянского! И какой бог узнал тайну грешного моего сердца и привел вас ко мне?
— И мы как раз с той же мыслью, с тем же заветным желанием оставили дома и хозяйство, не спали три ночи, пробирались по горам и ущельям, — и вот приехали повидать Вас именно в этот день, принять участие в Вашей радости и получить Ваше благословение, увидать освобождение нашей родины, утолить наш тоскующий взор, — но мы тотчас же должны возвращаться обратно, чтобы наместник не узнал о нашем приезде.
— Ах вы, негодные! То-то вы нарядились в черкески, притаились, чтобы вас никто не признал. Ладно, ладно. Но не так надо шутки шутить. Вы — люди молодые — вот какую выкинули шутку, а я — старик — свою выкину, посмотрим, кто кого. Вас вот надо в тюрьму засадить, чтобы вы образумились, чтобы знали: кто ради родины столько мук терпит, такой путь совершает, даже службой своей пренебрегает, — такой человек, ежели ему и меч к сердцу приставят, огонь будут на голову сыпать, — все равно не должен отвертываться. Вы смело, бесстрашно проехали такое расстояние, пробрались по местам, где людей едят, — а теперь не осмеливаетесь предстать перед наместником?
Да, спаситель Армении как узнает об этом вашем благородном поступке, поймет, что вы приехали увидеть торжество освобождения вашей страны и народа, приобщить свой голос к их голосу, свое благородное сердце к их сердцу в этот чудесный, достопамятный миг — как же он вместо того чтобы полюбить вас и обнять за это, рассердится на вас? Какое должно быть сердце у того, кто увидав, как сын пустился по горам, с опасностью для жизни, чтобы свидеться с родителем, освобожденным наконец от мук, побыть с ним, порадоваться одной с ним радостью, — не простит его, если б даже этот сын был на смерть осужден?