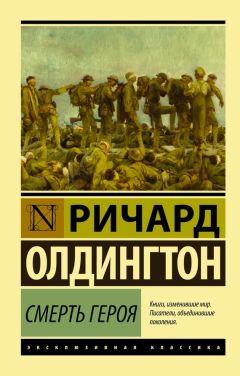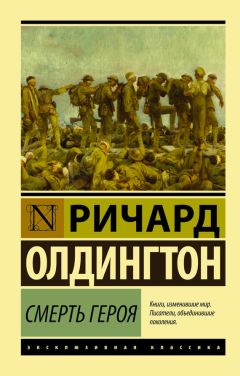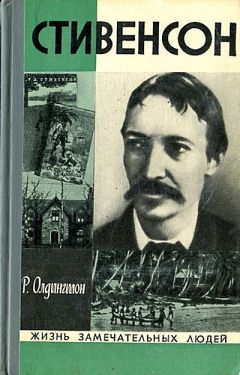Ричард Олдингтон - Дочь полковника
– Ага, понял! – отозвался Бим. – Интеллигент Меньшевик в духе Шоу, так, что ли?
– Нет, Бим. Не интеллигент. Интеллигентность у них не в чести. Они прилежат высоким цилиндрам и низким хитростям. Э-эй, Бим! Слушай меня, а на пиво не налегай, не то заснешь. Как во множестве сходных случаев фундамент вон того исторического дома заложил сын нищего военного авантюриста, который присоединился к крестовому походу Вильгельма Подзаборника. В доме продолжали обитать его потомки, живя и охотясь на земле, за которую платили военной службой или щитовыми деньгами. Сэр Хорес, кстати, всегда откупался щитовыми деньгами, и в частности, с четырнадцатого по восемнадцатый год. Тут я позволю себе отступление, которое, возможно, удивит тебя, Бим. А именно: этот самый пейзаж, в котором (или на котором?) мы сейчас сидим, послужил натурой для вербовочного плаката с красочным английским селением и надписью: «Стоит ли сражаться за все это?» Мне поручено говорить, что ответ гласит: «О, конечно! Но не для того, чтобы все это забрал Хорес». Улавливаешь, Бим?
Внезапно вырванный из пивной дремы Бим не сумел выдать сладкое всхрапывание за виноватое покашливание.
– Я очень устал, Бом.
– Внимание, Бим! Поставь бутылку! Сию же секунду! Ты не должен спать, слышишь? Ущипни себя, не то я тебя ущипну – и как следует! Кретин, паршивец, пивопийца, штрейкбрехер! К орудиям, отродье сонной брачной постели!
– А, ла-адно, Бом! Не взъедайся на меня, Бом.
– Не взъедайся! Вот закалю твой позвоночник, тогда будешь знать, братец. Ну-ка, сядь прямо и слушай! Дом этот перестраивался трижды: когда в царствование Елизаветы его из крепостицы превратили в загородную резиденцию, после того как его сожгли копейщики Эссекса и, наконец, в одна тысяча семьсот шестьдесят пятом году, когда владелец разбогател на английском сельском хозяйстве. А вот индустриализации, проводимой вигами, семейство на свою беду всячески противилось. Последний отпрыск сего благородного рода, круглый сирота, в дни войны был адъютантом генерала особой нравственности. В двадцать первом году настал его черед получить lettre de cachet,[146] обрекавший его на изгнание. Сейчас он в Мюнхене подвизается, как сомнительный специалист до интерьерам. Дом молодой помещик продал – почти даром, потому что был круглый дурак и угодил в лапы мошенников, не говоря уж о жутком экономическом спаде. Тут является господин хороший Хорес и хватает дом с непринужденной грацией акулы. Любуйся: наш торговец топлеными жирами и смазкой, который смазку для осей продает в пачках, как маргарин, а маргарин – в больших жестянках, как смазку для осей, водворяется в господский дом с правом держания поместий Падторп, Клив-на-Холме и Мерихэмптон, с правом соки и саки, с правом чинить суд и расправу над местными ворами – ну, почему бы ему не набросить петлю на собственную шею? – и еще со всякими феодальными правами и привилегиями, которые я запамятовал. На сей второй Эдем,[147] сей королевский трон, сию самой природой сложенную крепость он в год, возможно, тратит в нынешней монете (главным образом, бумажной) эквивалент полумиллиона червонцев в золотых рублях – курс можешь уточнить по телефону на Лондонской бирже. А все почему? А потому что спекулировал достоянием других людей, жизнями других людей, работой рук и мозга других людей; потому что покупал дешево, а продавал дорого; потому что не положил живот на алтарь Отечества, укрывшись среди тех, кого оно предпочло держать при себе; потому что практиковал всяческое жульничество, фальсификацию, узаконенный обман и умелую подмену доброкачественного товара никудышным; потому что был интендантом или поставщиком провианта Имперских сил Его Величества, несущих службу за морем. Только не помысли, о Бим, будто я порочу Его Священное Величество. Король, в отличие от его милости, не уступит в честности никакому другому христианину…
– По-твоему, это комплимент, Бом?
– …и с аркебузой управлялся истинно по-королевски. Тра-та-та, бей, бей, не жалей. Ах, если бы Его Величество из любви к нам, его верным подданным, милостиво соизволил пустить в ход эти меткие левые и правые в своей палате лордов, торжественно собравшейся в узаконенном порядке! Господа, здоровье короля! Благослови его бог!
– Блсвитегог! – отозвался Бим. – А не выпить ли нам пивка за его здоровье, Бом? Троекратно и еще трижды?
– Нет! Поставь бутылку! Поставь, кому говорю! Без сомнения, о Бим, сэр Орис, как он порой в забывчивости произносит собственное имя на трущобный лондонский манер, уже надоел тебе до смерти, не меньше, чем мне самому. Но тут полумеры не подходят. Только не помысли, о Бим, будто руководствуюсь я в этом деле собственным недовольством. Объявляю, что я неповинен ни в малейшей собственной или личной ненависти, ни в малейшей злобной зависти, как к его особе, так и к его богатству. Если отбросить манию наживы и маргарин, он не такой уж плохой человек. Прилепился к жене своей и дает приданое служанкам своим, секретаршам, стоит тем понести; аккуратно посещает церковь, с усердием и благочестием направляет стопы свои к аналою; облегчает участь бедняков, лепту свою по всем правилам вручая надзирателю работного дома; когда же наступает рождество, когда любовь к ближнему и милосердие смягчают все сердца, каждому своему арендатору без исключений он дарит по кролику из собственных обширных угодий. И гордыня его не чрезмерна: обходителен он и учтив со всеми людьми. Речет он фермеру своему по утру: «День добрый, Джайлс! Как поживаешь, любезный? Как здравствует Марион, моя сестра во Христе, а твоя пухлая женушка? Однако, любезный, надлежит мне обойтись с тобой по справедливости. Право есть право. И коли ты к Михайлову дню не внесешь положенную с тебя арендную плату, нас рассудит закон, и должен ты будешь со чадами своими убраться на все четыре стороны». Наступает День Господень, а милорд выходит подышать душистым вечерним воздухом. Но что он зрит? Под одной из собственных его изгородей мужчина и девица вздумали поиграть в скотинку о двух спинках.[148] Без промедления наносит он добрый удар по заду мужлана увесистой своей дубовой палкой. «Вставайте, ты, шелапут, и ты, распутница! Как! Вы оскверняете День Господень любострастием и блудом? Подзаборников задумали плодить на моей законной земле под собственной моей изгородью? Поспешите связаться священными узами брака, а не то… – у нас в стране, хвала Творцу, еще есть Закон – а не то стоять твоему домишке пусту! Теперь же прочь! И знайте, что Господь видит ваш блуд!» Но более того: однажды, отправившись укромным путем по законной своей надобности, повстречал он плачущее дитя – быть может, им самим зачатое, кому дано знать? – и, дабы положить конец его хныканью, из одного лишь сострадания и по доброте душевной, сей человеколюбец одарил дитя полновесным пенни, имеющим хождение во всех пределах королевства!
– Пресвятая богородица! – молвил Бим. – Поистине обходительный лорд, веселого нрава и сострадающий беднякам. И дивлюсь я, Бом, почему владыка наш король не почтил его каким-нибудь высоким титулом и не приблизил к своей августейшей особе.
– Если бы ты, Бим, слушал, что я тебе толкую, не ляпнул бы ты такую глупость. Разве я не сказал тебе, что Хорес – баронет? И не воображай, что Хорес только и делал, что хлопотал на своей смазочной фабрике, спекулировал на бирже да разыгрывал простецкого английского помещика былых времен. Он был превосходным вербовщиком, а достойная строгость его обращения с теми, кто пытался увиливать от военной службы, прикрываясь своими убеждениями, отвечала лучшим традициям британского правосудия и вызвала потоки восторженных славословий на страницах Патриотической Прессы. От ордена Британской Империи до мирового судьи был лишь шаг – давно положенный знак признания столь богатой одаренности. Подстрекаемый совестью, опасавшейся за политические свободы страны, Хорес сделал щедрый взнос в фонд правящей партии, и в следующем же списке награжденных по случаю дня рождения монарха его фамилия появилась среди наследственных рыцарей Англии, Chevaliers sans peur et sans reproche,[149] «за выдающиеся самоотверженные услуги, оказанные стране во время войны». Пророчествую: когда Его Величество издаст указ о выборе рыцарей и почтенных горожан в палату общин, сэр Хорес выставит себя от этого избирательного округа в защитники интересов местного населения, с которыми столь тесно сплетены его собственные интересы. Кавалер ордена Британской Империи, мировой судья, баронет, член парламента – на какие еще высоты не сумеет вознестись этот смазочный Кавдор, этот нечистый на руку Гламис?[150] Да, благородным будет его титул, как благороден он сам.
Англия сия, священный остров сей[151]
– Бим, под моей русской блузой – которой, кстати, на мне нет – бьется английское сердце. Сердце сердца моего, чем больше было бы оно, тем больше я б положил к ее ногам.[152] Но отделаться от Хореса я никак не могу Бим. Подобно непостижимой Афанасиевой формуле, он не един, но множественен. Имя ему легион. Британия – шлюха, а Пресса – ее сводня. Пусть Спор и содрогнулся от стыда, Хорес не содрогнется. Он и его дружки околдовали девку. Эти гнусные волшебники удрали с награбленной на войне добычей в чужие родовые замки, и ни единый рыцарь Красного Креста не протрубит вызова у решетки подъемного моста. Век, век, Горацио![153] Так впадем же в маразм, а затем и забудем все.