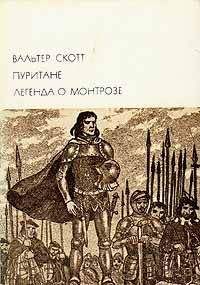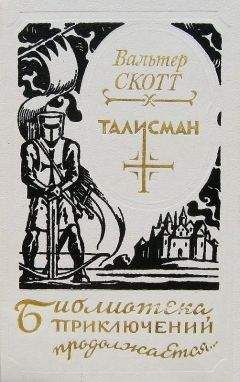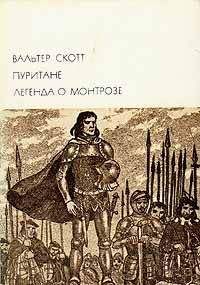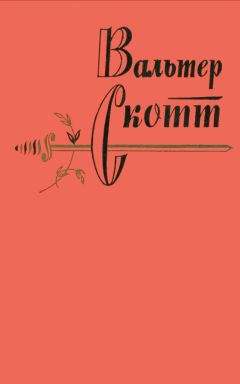Вальтер Скотт - Пуритане. Легенда о Монтрозе
«Не беда, — эти слова были написаны на обертке одного из наиболее пострадавших писем, — я знаю их наизусть».
Вместе с письмами, в том же потайном отделении книжки, хранилась, кроме того, прядь волос, завернутая в листок со стихами, продиктованными, видимо, глубоким и сильным чувством, искупавшим в глазах Мортона неуклюжесть версификации и вычурность выражений в соответствии со вкусом того времени:
Агнесы локон золотой,
Ты блещешь, как и ночью той,
Когда она, склонясь ко мне,
«Люблю», — шепнула в тишине.
Как жег тебя, о дивный дар,
Моей груди безмерный жар,
Где гнев и ненависть горят,
Где грех, открывший людям ад.
Мое дыханье — как вулкан,
А кровь — как бурный океан.
Но если этот страшный жар
Не сжег тебя, о чудный дар,
Насколько ж все влиянье зла
Агнеса б усмирить могла,
И я б, ведом ее рукой,
Был чист пред небом и землей.
Когда б она осталась жить,
Осталась жить, меня любить,
Тогда бы мне отрадой был
Не только скачки дикой пыл,
Не страсть охотничья б была
Одна на свете мне мила,—
Добычу выследить, загнать,
Схватить, на части растерзать
И путь спокойно продолжать,—
Нет, усмирен святой рукой,
Пред небесами и землей
Я мог бы нынче чистым быть,
Когда бы ты осталась жить.{152}
Прочтя эти строки, Мортон не мог не проникнуться сочувствием к участи этого странного, раздавленного судьбой человека, который, дойдя до последней ступени падения и даже позора, постоянно думал о высоком положении, предназначенном ему его рождением, и, погрязнув в разврате, втайне, с горьким раскаянием, вспоминал дни своей юности, когда он переживал чистую, хоть и несчастную страсть.
«Увы! — подумал Мортон. — Что мы такое, если наши лучшие и наиболее похвальные чувства могут быть до такой степени унижены, извращены, если достойная уважения гордость может превратиться в высокомерное и дерзкое пренебрежение общественным мнением, если страдания несчастной любви живут в той же душе, которую избрали своей твердыней развращенность, мстительность, алчность. И всюду одно и то же: у одного широта взглядов переходит в холодное и бесчувственное безразличие, у другого религиозное рвение превращается в исступленный и дикий фанатизм. Наши решения, наши страсти подобны морским волнам, и без помощи того, кто вложил в нас жизнь, мы не можем сказать: „До сих пор, но не дальше“».{153}
Предаваясь этим размышлениям, Мортон поднял глаза и увидел перед собой Белфура Берли.
— Ты уже проснулся? — сказал ему вождь ковенантеров. — Это хорошо; значит, ты горишь желанием вступить на уготованный тебе путь. Что у тебя за бумаги? — продолжал он.
Мортон коротко рассказал об успешном походе Кадди и передал ему записную книжку Босуэла со всем ее содержимым. Вождь камеронцев внимательно просмотрел бумаги, имевшие отношение к военным или общественным делам; дойдя до стихов, он с презрением отбросил их прочь.
— Я был далек от мысли, — сказал он, — когда с божьего благословения трижды пронзил мечом это главное орудие жестокости и гонений, что столь отчаянный и опасный человек может предаваться такому пустому и вместе с тем богомерзкому занятию. Но я вижу, что сатана сочетает порою в излюбленных и избранных исполнителях воли своей самые разнообразные качества, и та же рука, которая подъемлет дубину и смертоубийственное оружие на праведников в сей юдоли земной, бряцает на лютне или цитре и услаждает слух дщерей погибели на торжище суеты.
— Ваши представления о долге, — сказал Мортон, — несовместимы с любовью к изящным искусствам, которые, как принято думать, очищают и возвышают душу. Не так ли?
— Для меня, молодой человек, — отвечал Берли, — и для всех тех, кто думает так же, как я, все наслаждения этого мира, каким бы именем они ни прикрывались, есть суета, а власть и величие — не более как силки, расставленные для человека. Для нас на земле существует только одна задача — построение храма господня.
— Я не раз слышал, — заметил Мортон, — как отец утверждал, что многие, овладев властью во имя неба, были так ревнивы в пользовании ею и так не хотели с ней расставаться, что казалось, будто ими руководят побуждения мирского честолюбия; но об этом как-нибудь в другой раз. Удалось ли вам добиться назначения руководящего комитета?
— Да, — ответил Берли, — он будет состоять из шести членов, в числе коих и вы; я пришел, чтобы повести вас на заседание.
Мортон последовал за Берли на уединенную лужайку, где их уже ожидали остальные члены руководящего комитета. Обе партии, борьба которых вносила раздор в войско повстанцев, позаботились послать в этот высший орган исполнительной власти по трое своих представителей. Со стороны камеронцев то были Берли, Мак-Брайер и Тимпан: со стороны умеренных — Паундтекст, Генри Мортон и еще один мелкий землевладелец, которого все звали лэрдом Лонгкейла. Таким образом, в комитете обе партии уравновешивали друг друга, хотя представители крайних взглядов, как обычно в таких случаях, действовали энергичнее. Впрочем, на этот раз заседание протекало в более деловой обстановке, чем можно было предполагать, исходя из вчерашнего. Трезво оценив свои силы и положение, а также учитывая возможный рост численности их армии, они сочли нужным провести этот день на прежней позиции, чтобы дать отдых людям и чтобы успели подойти подкрепления, и постановили наутро выступить к Тиллитудлему и потребовать сдачи этой твердыни язычества, как они выражались. Если владельцы замка не согласятся на их предложение, они решили взять его стремительным приступом, а в случае неудачи оставить у его стен часть своего войска, с тем чтобы повести правильную осаду и голодом принудить его защитников к капитуляции. Между тем главные силы должны были двинуться дальше, чтобы выбить Клеверхауза и лорда Росса из Глазго. Таковы были решения руководящего комитета, и Мортону, едва вступившему на путь борьбы, предстояло, по-видимому, в качестве первого дела на новом поприще осаждать замок, принадлежавший ближайшей родственнице владычицы его сердца и защищаемый ее дядей, майором Белленденом, которому он был столь многим обязан! Понимая всю затруднительность своего положения, он утешал себя тем, что власть в повстанческом войске позволит ему оказать обитателям Тиллитудлема помощь и покровительство, на что при других обстоятельствах они не могли бы рассчитывать. Он не терял, кроме того, надежды, что сможет добиться соглашения между ними и пресвитерианской армией и обеспечить им безопасный нейтралитет на время готовой разразиться войны.
Глава XXIV
С побоища рыцарь примчался верхом,
Обрызганный кровью, омытый дождем.
Финлей{154}Теперь мы должны вернуться к Тиллитудлему и его обитателям. На следующий день после битвы при Лоудон-хилле, когда первые солнечные лучи коснулись зубцов замковых стен и защитники, готовясь к осаде, возобновили свои работы, часовой, находившийся на платформе высокой башни, именуемой Башнею стража, сообщил, что видит направляющегося к крепости всадника. Всадник приблизился; судя по его одежде, это был офицер лейб-гвардейцев; медленный шаг коня и поза всадника, склонившегося над лукой седла, явно указывали, что он болен или тяжело ранен. Тотчас была открыта калитка, и лорд Эвендел въехал во внутренний двор; он так ослабел от потери крови, что не мог самостоятельно слезть с коня. Когда, поддерживаемый слугою, он вошел в зал, обе женщины вскрикнули от удивления и испуга; бледный как смерть, забрызганный кровью, в испачканном грязью и изодранном платье, с растрепанными, спутавшимися волосами, он был больше похож на призрак, чем на живого человека. Но вслед за тем они разразились восклицаниями, радуясь, что он спасся.
— Благодарение господу, — воскликнула леди Маргарет, — что вы с нами и что вам удалось ускользнуть от рук этих кровожадных убийц, перебивших столько верных слуг короля!
— Благодарение господу, — добавила Эдит, — что вы здесь и находитесь в безопасности. Мы страшились самого худшего. Но вы ранены, а я не уверена, что мы сможем оказать вам необходимую помощь.
— Это только сабельные удары, — сказал молодой лорд, опускаясь в кресло, — боль от них не бог весть какая, и я бы не чувствовал себя таким изнуренным, если бы не потерял столько крови. Но я ехал сюда не затем, чтобы добавлять свои немощи к вашим трудностям и опасностям, но чтобы по мере сил помочь вам справиться с ними. Что могу я сделать для вас? Разрешите, — добавил он, обращаясь к леди Маргарет, — считать себя вашим сыном, сударыня, и вашим братом, Эдит.