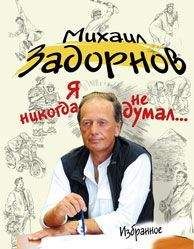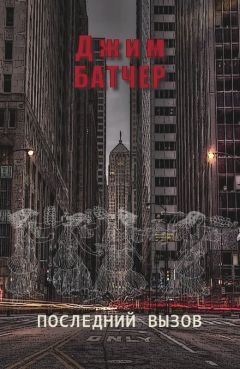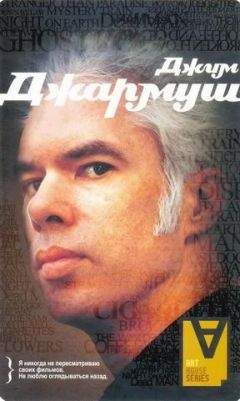Михаил Осоргин - Собрание сочинений. Т. 2. Старинные рассказы
Сей талисман хранился долго в семье Нарышкиных. По приказу Настасьи Александровны был сделан ящик ценного дерева, на дно которого была положена шелковая подушка, набитая лебяжьим пухом, и на ту подушку возложена борода Тимофея Архипыча. При возложении ее созваны были родные, и вся дворня, и все шуты и шутихи, и много бедного призреваемого люда. Кучер Левонтий, ту бороду увидя, обомлел от ужаса и на час потерял способность речи, но и позже про то дело не проронил слова, приказав молчать и жене. Когда же священный талисман увидал сын Настасьи Александровны, наехав погостить из Санкт-Петербурга, то кощунственно заметил:
— Сдается, что это не борода, а лошадиный хвост!
Однако талисман охраняли и берегли свято в память Настасьи Александровны, которая скоро вслед за тем преставилась.
Цари сменялись царями, и катилась история крылатым колесом. В 1812 году пришел на Москву чудовищный Бонапарт, посидел в Кремле и едва унес ноги домой. Внук Настасьи Александровны, вернувшись в Москву, опустошенную пожарами, купил новый дом на Пречистенке. Переезд был долог и хлопотен, перевозили скарб и из старого дома, и из деревни, и была немалая возня с любимыми Ивана Александровича коллекциями, так как человек он был современный и науке не чуждый. Особенно была хороша коллекция белых мышей, которых Иван Александрович разводил любовно за их редкость, а также приручал, так что они ползали у него под фраком, залезали в рукава и выползали через ворот, вызывая не только всеобщее удивление, но и ужас и отвращение женщин, зато и радость малых детей.
Те белые мыши содержались в больших клетках в особой комнате. А как перевозить их в клетках было невозможно, то Иван Александрович придумал для них иное временное помещение, где им пришлось просидеть дольше намеченного. Все же перевезли их благополучно и опять рассадили по клеткам в новом доме, а ящик, служивший для перевозки, Иван Александрович приказал отправить на чердак, где он и простоял еще два-три человеческих поколения, до конца прошлого века.
Казалось бы, что ни мыши, ни ящик в нашем рассказе ни при чем. А между тем Иван Александрович, не желая огорчить жену, скрыл от нее странное происшествие. Дело в том, что ящик был тот самый, в котором хранилась борода Тимофея Архипыча; белые же мыши, наголодавшись в ящике, съели не только сыромятный ремешок, но и самую бороду, хотя вкуса в ней не могло быть никакого. Съели не целиком, но все же настолько, что все ее велелепие исчезло, а к тому же сильно попортилась и загрязнилась и подушка. Все это Иван Александрович скрыл[182], не придав случаю никакого значения, но боясь неприятностей от своей жены Екатерины Александровны, урожденной Строгановой, женщины серьезной и почтительной к заветам старины.
А уж дальше — суеверные могут охать, а маловерные над ними смеяться, но только в тот самый год тяжко заболел за границей внук Ивана Александровича и впоследствии от этого недуга сошел в могилу бездетным, хоть и был женат на девице Кноринг. А так как у второго сына Ивана Александровича детей мужского пола не было, то тем самым эта ветвь дома Нарышкиных вскоре пресеклась, как и было то предсказано явившимся на воздусех в моленной Тимофеем Архипычем.
* * *Старинные предания поучительны, и не следует относиться к ним с легкомысленным смешком.
И неплохо в вечной тревоге мира сего поступит тот, кто, современности не смущаясь, насмешек не боясь, даст своей бороде произрастать свободно, охранив и ее и себя от напастей заклинаниями отца нашего Сисиния:
«Ты еси окаянная Тресея!
Ты еси окаянная Глухия!
Ты еси окаянная Грудица!
Ты еси окаянная Корноша проклятая!
Ты еси окаянная Вевея — сестра страшная плесовица, усекнула главу Иоанну Предтечу!»
УДИВИТЕЛЬНОЕ СОВПАДЕНИЕ
Людовик Осьмнадцатый[183], отец и благодетель своих подданных, не скупился на ордена для признательной отметки даже некрупных заслуг перед отечеством. Так, например, небольшой и приятный орденок имел почтмейстер городка Руа, что в Пикардии. В то время орденские кавалеры не ограничивались ношением ленточки в петличке, а добросовестно вывешивали на подлежащем месте красивую побрякушку; и тотчас же, даже у хилого человека, грудь сама собою выпячивалась, а встречный человек смотрел, завидовал и мечтал сам со временем украситься чем-нибудь подобным. Это вело к благомыслию и рвению чиновников, как, впрочем, ведет и сейчас; самый же орден государству ничего не стоил, так как покупался награжденным за собственный счет. Излишне говорить, что ордена изобретены человеком мудрым и тончайшим психологом.
Мосье Пьер Амабль Кентар, проживая в Руа, чувствовал себя человеком счастливым и по заслугам оцененным, даже несколько возвышенным над окружавшим его миром. Когда же он был переведен в Шель Нижнерейнского департамента в Эльзасе также на должность почтмейстера королевской почты, то случилось, что в первое же воскресенье, выйдя прогуляться с женой средней красоты и дочерью на выданье, он встретил, по крайней мере, десяток таких же орденских кавалеров, а сверх того, почтенных буржуа, украшенных орденом иностранным. Иными словами — здесь почтмейстеру Пьеру Амаблю Кентару не только нечем было выделиться, но он оказывался как бы на втором плане в толпе одинаково отмеченных вниманием Людовика Осьмнадцатого.
Это его неприятно взволновало. Солнце потеряло прежнюю яркость и ласковость, вечера тянулись долго, ночи стали несколько беспокойными. Однажды, внимательно рассматривая еще недавно любимый орденок, Пьер Амабль Кентар пришел в убеждение, что в нем нет ни достаточной красоты, ни особой привлекательности для взора. Есть много орденов французских, не говоря уже об иностранных, при блеске которых этот орденок обращается как бы в простую пуговицу, в малодостойную бляху. Мечтать о более парадном ордене национальном невозможно человеку, остающемуся провинциальным почтмейстером королевской почты. Но сколько людей ничем не выдающихся и за заслуги более чем сомнительные получили в последнее время иностранные знаки отличия в связи с конгрессами и дипломатической суматохой! Жить сейчас в Париже — ничего бы не стоило, использовав случай, поймать на лету ласку международной любезности и украсить новым блеском не только грудь, но и шею.
Напрягая память, почтмейстер духовным взором увидал прекрасный эмалевый крестик с кружочком посредине, украшавший шею проезжего русского военного чиновника; вспомнил ордена австрийские на портрете важного военачальника, фамилии которого никак не запомнишь. Посылает же иным судьба на грудь целые небосводы звезд и крестиков, так что, кажется, для нового отличия и места не найдется. Мечтать об этом праздно, но один-единственный эмалевый крестик мог бы упасть с неба на грудь скромного почтмейстера, тем более что по нынешнему времени значение королевской почты особенно велико.
И было угодно счастливому случаю, чтобы в городок Шель занесла судьба компанию русских офицеров. Были они только проездом, однако успели показать себя в лучших кабачках, поразив воображение граждан совсем не виданным дотоле размахом веселья и количеством выпитых бутылок. Еще поразило граждан то, что русские говорят по-французски не хуже их, эльзасцев, и что нет в них никакой важности и готовы они поболтать и выпить с первым встречным. Почтмейстер не был, конечно, первым встречным и тем легче завязал знакомство с офицерами, оказав им небольшую услугу по своей части. А завязав, прежде всего, как все люди любознательные, осведомился, правда ли, что по улицам Петербурга свободно гуляют белые медведи, а затем скоро перешел и к особо интересовавшему его вопросу: какие бывают русские ордена, которые даются среднему человеку за средние заслуги, и что это за эмалевый крестик с пятнышком в середине, который носят на шее?
Разъяснение почтмейстер имел полное, так что даже узнал, что это орден голштинский, но Павлом Первым введен в России, и что имеется он в пяти степенях — по степени заслуг и почтенности одаряемого. Мало того, один из офицеров, с истинно русским великодушием, будучи, однако, почти трезвым, подарил почтмейстеру именно такой крестик Святой Анны третьей степени, сказав, что себе он купит новый и что этого добра у нас сколько хочешь продается в магазинах, только носить может только тот, кому крестик высочайше пожалован.
Метеором блеснув, офицеры уехали, крестик же остался у почтмейстера, и притом с нужной ленточкой. Не раз, стоя перед маленьким зеркалом, прикладывал Пьер Амабль Кентар эмалевый крестик к груди и навязывал его на шею. Хотелось ему хоть раз пройтись с этим украшением по улице, чтобы утереть нос встречным кавалерам орденов не столь важных, но решимости не хватало; если бы еще в Париже, где человек человека не знает; здесь же, в городке Шель, знает каждого человека даже каждая собака, и подобный поступок не только вызовет разговоры, а может доставить и большую неприятность. Поэтому, поиграв драгоценной игрушкой, почтмейстер со вздохом укладывал ее в бумажную коробочку.