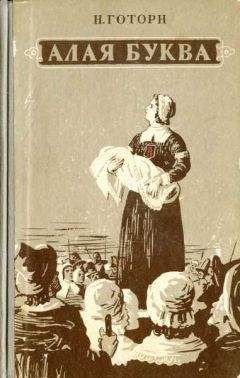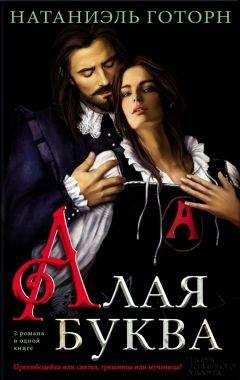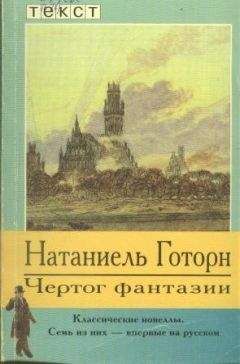Эптон Синклер - Джимми Хиггинс
Многие ирмовцы рассказывали раньше Джимми, как им устраивали это самое «водолечение» — излюбленный метод, к которому прибегала полиция в маленьких городках и деревнях. Просто, дешево и чисто: не оставляет никаких следов — ни крови, ни ран, которые можно было бы демонстрировать на суде; вода затыкает жертве рот, так что из тюремных окошек никаких криков не слышно. Поэтому достаточно заявить на суде, что ничего не было,— и пускай арестант попробует доказать! Этим средством «лечили» Неистового Билла, а Клубнику Каррена — даже несколько раз. Но все-таки, думал Джимми, никто из них не страдал так, как он, ни одно живое существо никогда не испытывало ничего подобного! Бедный Джимми не был искушен в вопросах истории » не понимал, что то зло, которое одни люди могут причинять, другие люди всегда могли терпеть. И им придется терпеть это и дальше, пока закон будет служить привилегированному классу, пока богатые будут иметь право прибегать к нему для поддержки своего бесславного дела.
Итак, в душе Джимми Хиггинса шла извечная борьба. Этот маленький, жалкий механик с плохими зубами и узловатыми руками не умел делать ничего возвышенного, ничего значительного, не мог даже проявить чувство собственного достоинства. Впрочем, весьма трудно проявить чувство собственного достоинства, когда лежишь на полу и в тебя влили полведра или ведро воды, и на твоих ногах сидит один солдат, а на животе — другой, а третий запихивает тебе в рот воронку. Все, что оставалось Джимми,— это вести отчаянную борьбу в глубине своей души и не дать себя победить.
— Когда захочешь говорить, подними колено,—уже несколько раз повторил Перкинс, и Грэйди привставал, чтобы дать ему возможность поднять колено, но Джимми так его и не поднял.
В глубоких тайниках истерзанной души Джимми Хиггинса происходило нечто странное. Лежа на полу, беспомощный и связанный, полный отчаяния, извиваясь от боли, обезумев от страха перед страданиями, Джимми взывал о помощи, и помощь пришла! Та помощь, которая проникает сквозь все тюремные стены и обманывает всех тюремщиков и палачей, та Сила, которая рушит все замки и преграды, преодолевает любой страх...
У тебя есть великие союзники,
Есть друзья — экстаз страдания,
Любовь и непобедимый дух!
В душе Джимми Хиггинса звучал этот Голос, который заглушал угрозы и веления тирании, голос, говоривший: «Я — Человек, и я торжествую. Я побеждаю плоть, я топчу тело и взлетаю ввысь над ним. Я презираю темницы, в которые заключают тело, я пренебрегаю его благоразумием и его страхами. Я — Истина, и меня услышит весь мир. Я—Справедливость, и я совершусь в мире. Я — Свобода, и я уничтожаю законы, я презираю все притеснения, я дикую и возвещаю освобождение!» И только потому, что во все века и во всех уголках земного шара эта священная Сила обитала в душе человека, потому, что в душе его всегда звучал этот таинственный Голос, человечество вышло из тьмы и первобытной дикости, чтобы — пусть пока еще только в мечтах — увидеть счастливую жизнь.
Так под пытками страдания Джимми превратились в экстаз, в ошеломляющий, губительный восторг, граничащий с безумием. Сержант Перкинс поднялся и, взглянув на него, покачал головой.
— Ей-богу, не пойму, что сидит в этом дьяволенке! — Он ткнул Джимми в бок ногой, и душа Джимми дрогнула и понеслась куда-то, закружившись в бесконечности страдания.
— Клянусь, я заставлю тебя говорить! — заорал сыщик и начал изо всех сил пинать Джимми своими тяжелыми сапожищами, пока его не остановил Коннор, напомнив, что это неэтично: останутся следы.
Тогда сержант бросил своим подручным:
— Побудьте здесь! — и пошел наверх, где его поджидал Ганнет, нетерпеливо шагавший по комнате.
— Лейтенант,— сказал сыщик,— этот парень упрям! Тяжелый случай!
— Что он говорит?
— Я не могу добиться от него ни слова. Он социалист, а значит, помешанный. Вы даже не представляете себе, какие среди них есть вредные. Как только закончу допрос, я вам тотчас доложу, дожидаться вам здесь не стоит.
Офицер уехал, а Перкинс вернулся в подземелье и приказал своим подручным каждые два часа приходить в камеру и накачивать Джимми водой — авось это развяжет ему язык. И Джимми остался лежать, рыдая и издавая стоны, в полном одиночестве, время от времени вздрагивая в приступе губительного экстаза, который длился недолго и который ■ приходилось непрерывно поддерживать усилиями воли, подобно тому как усталую лошадь приходится погонять кнутом и шпорами. И все равно по-настоящему выиграть эту битву никогда невозможно. Нельзя полностью забыть о существовании тела и подавить все его настойчивые требования! Господь приходит, но по пятам за ним следует сомнение. Какой смысл в этом ужасном самопожертвовании? Какую оно принесет пользу, кто о нем узнает и кому до этого дело? Так нашептывает Сатана душе; таков извечный поединок между мечтой человека о новом порядке и старым порядком, который он сам превратил в закон.
Глава XXVII ДЖИММИ ХИГГИНС ГОЛОСУЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ
I
Настал новый день, но Джимми в своей темнице и не знал этого. Он знал лишь одно: сержант Перкинс вернулся и стоит, уставившись на него и ковыряя перышком в зубах. Маленький большевик выдержал пытку водой дольше всех, с кем Перкинсу приходилось до сих пор иметь дело. Сыщик недоумевал: ну что за дурак ему попался, чего он этим добивается?
Но оставлять его в покое было нельзя. На карту была поставлена его, Перкинса, карьера: начальство ожидает от него сведений, а у него их нет. Поэтому Перкинс приказал снова подвесить Джимми за пальцы — за эти бедные пальцы, совсем почерневшие и распухшие втрое против нормальной величины. Но на сей раз вмешалась добрая мать-природа и заставила прекратить инквизицию: боль оказалась настолько острой, что Джимми потерял сознание. Когда сыщик обнаружил такой подвох, он перерезал веревку и оставил свою жертву лежать на мокром полу.
В течение трех последующих дней жизнь Джимми состояла попеременно из обмороков и пытки — обычной рутины «допроса с пристрастием», применяемого к неподатливым арестантам; и всякий раз, в те минуты, когда к Джимми возвращалось сознание, он взывал к богу, и бог посылал ему ангелов,— Джимми слышал торжественные звуки их труб и так ничего и не говорил.
На четвертый день все трое мучителей вошли в камеру, подняли его на ноги и поволокли вверх по каменной лестнице; потом завернули в одеяло и посадили в автомобиль.
— Вот что,— сказал Перкинс, севший рядом с ним,— тебя будет судить военный суд. Ты меня слышишь?
Джимми не отвечал.
— И знай, я говорю тебе это для твоей же пользы; если ты посмеешь там врать про наше обращение с тобой, я отвезу тебя обратно в тюрьму и разорву на части. Понятно?
Джимми все молчал. «Злой дьявол!» — подумал Перкинс. Но в душе Джимми блеснула искорка надежды. Л вдруг ему удастся апеллировать к высшим властям, и это спасет его от новых мучений? Он сохранял веру в свою страну, в то, что ее целью была защита демократии, он читал замечательные речи президента Вильсона и не мог допустить мысли, чтобы президент разрешил кого-нибудь пытать. Но, увы, от Белого дома до Архангельска было так далеко, и казалось еще дальше, если учесть все инстанции военной машины, гораздо более опутанные бюрократизмом, чем любой сектор линии Гинденбурга — колючей проволокой.
Джимми втащили в комнату, где за столом восседало семеро офицеров с мрачными лицами. Перкинс поддерживал Джимми подмышки, создавая впечатление, будто тот идет самостоятельно. Джимми посадили на стул, он огляделся и не нашел ничего обнадеживающего в устремленных на него взглядах.
Председателем военного суда был майор Гаддис. До войны он служил профессором политической экономии в одном из крупнейших американских университетов; точнее сказать, его избрал на этот пост синдикат банкиров, как человека, который верит в правящий класс и никогда, ни при каких обстоятельствах ему не изменит. Это был безукоризненно честный, любезный и образованный джентльмен, в чем мог удостовериться каждый, кто принадлежал к его социальному кругу; но он был твердо убежден, что долг низших классов — повиноваться и что цивилизованное общество может существовать лишь в том случае, если удастся держать эти классы в повиновении.
Рядом с ним сидел полковник Най — прямая противоположность Гаддису. Най был раньше наемным воякой в Мексике и Центральной Америке; позднее он преуспел в качестве начальника одной из банд кондотьеров, организованных перед войной крупными американскими корпорациями для подавления рабочих забастовок. Он командовал частной армией в пять тысяч человек — пехоты и конников, с артиллерией, носившей в Америке официальное название: «Сыскное агентство Смитерс». Во время одной крупной шахтерской забастовки правительство штата назначило его начальником милиции, и он проявил особое рвение, обстреливая из пулеметов палатки на пустырях, битком набитые женщинами и детьми. Его судил за убийство милицейский военный суд, но оправдал. Это лишило гражданский совет присяжных возможности предать его суду и повесить. Когда началась война, Ная автоматически перевели из милиции штата в армию, и там он успел прослыть весьма дельным офицером и строгим ревнителем дисциплины.