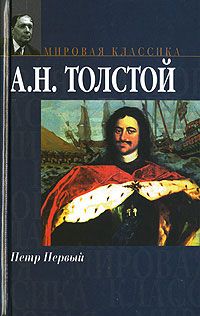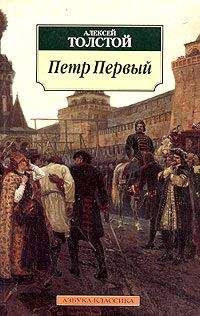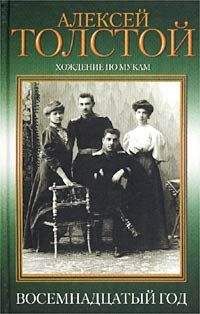Алексей Толстой - Восемнадцатый год
Эпоха домашней междоусобной борьбы кончалась, – в игру вступали извне мощные силы.
Особенная и неожиданная опасность встала перед германским главным штабом сейчас же после первых июньских побед Деникина. Большевики были врагом, связанным по рукам и ногам Брест-Литовским договором. Деникин оказывался врагом, еще не изведанным и не изученным. С разгромом сорокинской армии Деникин выходил к Азовскому морю и к Новороссийску, где с первых чисел мая находился весь русский военный флот.
Со стороны Черного моря немцы не были защищены. Покуда флот находился в руках большевиков, они были спокойны, – на всякое его враждебное действие они ответили бы переходом через украинскую границу. Но пятнадцать эскадренных миноносцев и два дредноута в руках Деникина были уже серьезной угрозой превращения Черного моря во фронт мировой войны.
Десятого июня Германия предъявила Советскому правительству ультиматум: в девятидневный срок перевести весь Черноморский флот из Новороссийска в Севастополь, где стоял сильный немецкий гарнизон. В случае отказа Германия угрожала наступлением на Москву.
Тогда же из Одессы начальник штаба австрийских оккупационных войск писал в Вену – министру иностранных дел:
«Германия преследует на Украине определенную хозяйственно-политическую цель. Она хочет навсегда закрепить за собой безопасный путь на Месопотамию и Аравию через Баку и Персию.
Путь на восток идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь, откуда начинается морское сообщение на Батум и Трапезунд.
Для этой цели Германия намерена оставить за собой Крым, как свою колонию или в какой-либо иной форме. Они никогда уже не выпустят из своих рук ценного Крымского полуострова. Кроме того, чтобы полностью использовать этот путь, им необходимо овладеть железнодорожной магистралью, а так как снабжение углем из Германии этой магистрали и Черного моря невозможно, то ей необходимо завладеть наиболее значительными шахтами Донбасса. Все это Германия так или иначе обеспечит себе…»
Когда десятого июня в Москве был получен германский ультиматум, Ленин – как всегда, без колебаний – решил этот тяжелый и для многих «неразрешимый» вопрос. Решение было: воевать с немцами сейчас еще нельзя, но и флота им отдавать нельзя.
Из Москвы в Новороссийск выехал представитель Советского правительства товарищ Вахрамеев. В присутствии делегатов от Черноморского флота и всех командиров он предложил единственный большевистский ответ на ультиматум: Совет Народных Комиссаров посылает открытое радио Черноморскому флоту с приказом идти в Севастополь и сдаваться немцам, но Черноморский флот этого приказания не выполняет и топится на Новороссийском рейде.
Советский флот – два дредноута и пятнадцать эскадренных миноносцев, подводные лодки и вспомогательные суда, обреченные Брест-Литовским договором на бездействие, – стоял в Новороссийске, на рейде.
Делегаты от флота съехали на берег и хмуро выслушали Вахрамеева, – он предлагал самоубийство. Но – куда ни кинь, все клин: податься некуда, у флота не было ни угля, ни нефти. Москву заслоняли немцы, с востока приближался Деникин, на рейде уже чертили пенные полосы перископы германских подводных лодок, и в синеве поблескивали германские бомбовозы. Долго и горячо спорили делегаты… Но выход был один: топиться… Все же перед этим страшным делом делегаты решили поставить судьбу флота на голосование всего флотского экипажа.
Начались многотысячные митинги в Новороссийской гавани. Трудно было понять морякам, глядя на ошвартованные серостальные гиганты – дредноуты «Воля» и «Свободная Россия», на покрытые военной славой быстроходные миноносцы, на сложные переплеты башен и мачт, громоздившихся над гаванью, над толпами народа, – трудно было представить, что это грозное достояние революции, плавучая родина моряков, опустится на дно морское без единого выстрела, не сопротивляясь.
Не такие были головы у черноморских моряков, чтобы спокойно решиться на самоуничтожение. Много было крикано исступленных слов, бито себя в грудь, рывано тельников на татуированных грудях, растоптано фуражек с ленточками…
От утренней зари до вечерней, когда закат обагрял лилово-мрачные воды не своего теперь, проклятого моря, – густые толпы моряков, фронтовиков и прочего приморского люда волновались по всей набережной.
Командиры судов и офицеры смотрели на дело по-разному: большая часть тайно склонялась идти на Севастополь и сдаваться немцам; меньшая часть, во главе с командиром эсминца «Керчь» старшим лейтенантом Кукелем, понимала неизбежность гибели и все огромное значение ее для будущего. Они говорили: «Мы должны покончить самоубийством, – на время закрыть книгу истории Черноморского флота, не запачкав ее…»
На этих грандиозных и шумных, как ураган, митингах решали утром – так, вечером – этак. Больше всего было успеха у тех, кто, хватив о землю шапкой, кричал: «…Товарищи, чихали мы на москалей. Нехай их сами потонут. А мы нашего флота не отдадим. Будем с немцами биться до последнего снаряда…»
«Уррра!» – ревом катилось по гавани.
Особенно сильное смятение началось, когда за четыре дня до срока ультиматума примчались из Екатеринодара председатель ЦИКа Черноморской республики Рубин и представитель армии Перебийнос – саженного роста, страшного вида человек, с четырьмя револьверами за поясом. Оба они – Рубин в пространной речи и Перебийнос, гремя басом и потрясая оружием, – доказывали, что ни отдавать, ни топить флот не можно, что в Москве сами не понимают, что говорят, что Черноморская республика доставит флоту все, что ему нужно: и нефть, и снаряды, и пищевое довольствие.
– У нас на фронте дела такие, в бога, в душу, в веру… – кричал Перебийнос, – на будущей неделе мы суку Деникина с его кадетами в Кубани утопим… Братишечки, корабли не топите, – вот что нам надо… Чтоб мы на фронте чувствовали, что в тылу у нас могучий флот. А будете топиться, братишечки, то я от всей кубано-черноморской революционной армии категорически заявляю: такого предательства мы не можем перенести, мы с отчаяния повернем свой фронт на Новороссийск в количестве сорока тысяч штыков и вас, братишечки, всех до единого поднимем на свои штыки…
После этого митинга все пошло вразброд, закружились головы. Команды стали бежать с кораблей куда глаза глядят. В толпе все больше появлялось темных личностей – днем они громче всех кричали: «Биться с немцами до последнего снаряда», а ночью кучки их подбирались к опустевшим миноносцам – готовые броситься, покидать в воду команду и грабить.
В эти дни на борт миноносца «Керчь» вернулся Семен Красильников.
Семен чистил медную колонку компаса. Вся команда работала с утра, скребя, моя, чистя миноносец, стоявший саженях в десяти от стенки. Горячее солнце всходило над выжженными прибрежными холмами… В безветренном зное висели флаги. Семен старательно надраивал медяшку, стараясь не глядеть в сторону гавани. Команда убирала миноносец перед смертью.
В гавани дымили огромные трубы дредноута «Воля». Сверкали орудия со снятыми чехлами. Черный дым поднимался к небу. Корабль, и дым, и бурые холмы, с цементными заводами у подножья их, отражались в зеркальном заливе.
Семен, присев на голые пятки, тер, тер медяшку. Этой ночью он держал вахту, и так ему было горько, раздумавшись: зря заехал сюда. Зря не послушал брата и Матрену… Смеяться будут теперь: «Эх, скажут, дюже ты повоевал с немцами – пропили флот, братишки…» Что ответишь на это? Скажешь: своими руками почистил, прибрал и утопил «Керчь».
От «Воли» к судам бегал моторный катер, махали флагами. Эсминец «Дерзкий» отвалил от стенки, взял на буксир «Беспокойного» и медленно потащил его на рейд. Еще медленнее, как больные, двинулись за ним по зеркалу залива эскадренные миноносцы: «Поспешный», «Живой», «Жаркий», «Громкий».
Затем в движении настал перерыв. В гавани осталось восемь миноносцев. На них не было заметно никакого движения. Все глаза теперь были устремлены на светло-серую, с ржавыми потеками по бортам, стальную громаду «Воли». Моряки глядели на нее, бросив швабры, суконки, брандспойты. На «Воле» развевался лениво флаг командующего флотом, капитана первого ранга Тихменева.
На борту эсминца «Керчь» моряки говорили вполголоса, тревожно:
– Смотри… Уйдет «Воля» в Севастополь…
– Братишки, неужто они такие гады!.. Неужто у них революционной совести нет!..
– Ну, если уйдет «Воля», в кого же тогда верить, братишки?..
– Не знаешь, что ли, Тихменева? Самый враг, лиса двухчаловая!
– Уйдет! Ах, предатели!..
За «Волей» на якорях стоял родной брат «Воли» – дредноут «Свободная Россия». Но он, казалось, дремал покойно, – весь покрытый чехлами, на палубах не видно было ни души. От мола отчаянно гребли к нему какие-то лодки. И вот ясно в безветренной гавани раздались боцманские свистки, на «Воле» загрохотали лебедки, полезли вверх мокрые цепи, облепленные илом якоря. Нос корабля стал заворачивать, переплеты мачт, трубы, башни двинулись на фоне беловатых городских крыш.