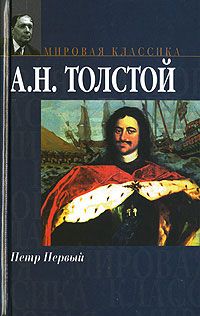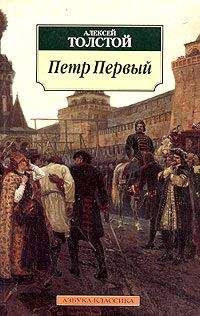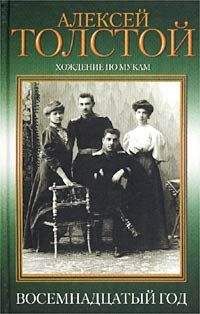Алексей Толстой - Восемнадцатый год
– Братоубийцы, Россию продали… Армию продали… Братцы!.. Что же вы смотрите!.. Последний флот продают…
Толпа заревела, выворачивая камни. Несколько человек перескочило через борт «Фидониси». Тогда быстро к берегу подошла «Керчь», колокол на ней пробил боевую тревогу, орудия жерлами повернулись на толпу, командир закричал в мегафон:
– Назад! Открою огонь!
Толпа попятилась, отхлынула, завизжали раздавленные. Поднялась пыль, и берег опустел. Шхуна взяла на причал и увела «Фидониси».
«Керчь» медленно шла следом до места, где на рейде лежали все корабли на легкой зыби. Семен глядел на чаек, летящих высоко за кормой, потом стал глядеть на командира, вцепившегося обеими руками в перила мостика.
Был четвертый час дня. «Керчь» обошла с правого борта «Фидониси», командир сказал одно только слово, – черной тенью мелькнула из аппарата мина, пенная полоса побежала по зыби, и вот, как раз посредине, корпус «Фидониси» приподнялся, разламываясь, косматая гора воды и пены взлетела из морской бездны, тяжелый грохот покатился далеко по морю. Когда гора воды спала, на поверхности не было «Фидониси», – ничего, кроме пены. Так началось потопление.
Подрывные команды открывали на миноносцах кингстоны и клинкеты, отдраивали все иллюминаторы на накрененном борту и, перед тем как садиться с тонущей палубы в шлюпку, зажигали бикфордов шнур, чтобы взорвать десятифунтовым патроном турбины и цилиндры. Миноносцы быстро скрывались под водой на многосаженной глубине. Через двадцать пять минут рейд был пустынен.
«Керчь» полным ходом подошла к «Свободной России» и выбросила мины. Матросы медленно сняли фуражки. Первая мина ударила в корму, – дредноут качнулся, охваченный потоками воды. Вторая попала в борт, в середину. Сквозь тучу пены и дыма было видно, как закачалась мачта. Дредноут боролся, будто живое существо, еще более величественный среди ревущего моря и громовых взрывов. У матросов текли слезы. Семен закрыл ладонями лицо…
Командир Кукель весь высох в эти минуты, – остался у него один нос, протянутый к гибнущему кораблю. Ударила последняя мина, и «Свободная Россия» начала переворачиваться вверх килем… Она сделала еще усилие, будто приподнималась из воды, и быстро пошла на дно в пенном водовороте.
От места гибели «Керчь» пошла, развивая предельную скорость, на Туапсе. Под утро команда была высажена в шлюпки. После этого «Керчь» послала радио: «Всем… Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец „Керчь“.
Миноносец открыл кингстоны, взорвал машины и затонул на пятнадцатисаженной глубине.
На берегу Семен Красильников советовался с товарищами, – куда теперь идти. Думали так и этак и сговорились идти на Астрахань, на Волгу, где, слышно, Шахов формирует речной военный флот для борьбы с белогвардейцами.
По горным тропам и бездорожью, преследуемая по пятам, окруженная повально восставшими станицами, Таманская армия под командой Кожуха пробивалась кружным путем на верховья Кубани.
Путь лежал через Новороссийск, занятый после гибели флота немцами. Колонны таманцев подошли неожиданно, – войска с песнями проходили через город. Немецкий гарнизон, не понимая их намерений, бросился на суда и обстрелял морскими орудиями заднюю колонну и заодно наседавших на хвост ее пьяных и озверевших станичников.
Из предосторожности немцы покинули город, и он, когда Кожух, отбиваясь, ушел, был занят казаками и затем регулярными войсками белых. Город был отдан на поток и разорение.
Матросов, красноармейцев и просто жителей поплоше без суда вешали на телеграфных столбах. Ломовые извозчики свезли в те дни три тысячи трупов в море. Новороссийск стал белым портом.
По голодному побережью Таманская армия, отягощенная обозами пятнадцати тысяч беженцев, дошла до Туапсе и оттуда круто свернула на восток. Деникинцы гнались по пятам, впереди все ущелья и высоты были заняты повстанцами. Каждый день разворачивался в тяжелый бой. Истекая кровью, огрызаясь, умирая от голода, армия сползала в ущелья, взбиралась на крутые холмы, таяла и шла, пробивая лбом дорогу.
Однажды к Кожуху привели отпущенного генералом Покровским пленного красноармейца с письмом, написанным с военной простотой:
«Ты, мерзавец, опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков; имей в виду, что тебе и твоим босякам пришел конец. Мы тебя, мерзавца, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ: сегодня же сложить все оружие, а банду, разоруженную, отвести на расстояние четырех-пяти верст западнее станции Белореченской. Когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне на четвертую железнодорожную будку…»
Кожух, читая это письмо, пил чай из консервной банки. Он посмотрел на босого, в распоясанной рубашке, красноармейца, уныло стоявшего перед ним.
«Говнюк ты, братец, – сказал ему Кожух, – как же ты мне передаешь такие письма? Уйди в свою часть…»
И в эту же ночь Кожух нанес генералу Покровскому страшный удар, опрокинул и гнал конницей его части. Прорвался на Белореченскую и вышел из окружения. К концу сентября Таманская армия появилась под Армавиром, занятым деникинцами, взяла его штурмом и в станице Невинномысской соединилась с остатками армии Сорокина.
Потеряв после разгрома под Выселками и Екатеринодаром влияние в армии, хлебнув хмеля военной славы и озлобленный неудачами, Сорокин отступал все дальше и дальше на восток, крутясь, как щепка, в водовороте того, что еще недавно именовалось дивизиями, бригадами, полками. Теперь это были толпы, бегущие при первых выстрелах противника. Отступая, они все сметали на пути. Их влекло одно – поскорее оторваться от висящей за плечами смерти, уйти куда глаза глядят. Нескончаемые толпы дезертиров брели по терским степям, по древней дороге народов, покрытой полынью и курганами.
Из-под Екатеринодара ушло около двухсот тысяч войск и беженцев. Те, кто остался, были зарублены, повешены, замучены станичниками. В каждой станице качались трупы на пирамидальных тополях. Красным мстили теперь без пощады, не опасаясь их возврата. Во всем краю выжигали самое имя большевиков.
Сорокин был рожден революцией. Он звериным чутьем понимал ее взлеты и падения. Он не руководил отступлением, это было бы бесполезно. Стихия устремлялась на восток, – она остановится, когда у белых ослабнет упорство преследования.
Ему оставалось только мрачно глядеть в окно вагона, ползущего по выжженным степям, мимо курганов древних пелазгов, кельтов, германцев, славян, хозар… Личный конвой охранял его поезд, так как проходившие кричали:
– Братишки, командиры нас продали, пропили, бей командиров, мы своих убили.
Начштаба Беляков приходил в купе, вздыхал и осторожно начинал говорить туманные слова о невозможности дальнейшей борьбы. «Революция имеет свои фазы, – постоянно повторял он, поглаживая ладонью большой лоб, – подъем прошел, против нас выступают уже стихийные силы. Мы боремся не с офицерами только, а со всем народом. Нужно вовремя спасти завоевания революции… Спасти хотя бы компромиссным миром…» И он приводил убедительнейшие примеры из истории…
«За какие деньги хочешь меня купить, подлец?» – только и отвечал на это Сорокин. Попадись ему Деникин сейчас в руки – съел бы его живьем. Но всего злее разгоралось его сердце на товарищей, членов Черноморского ЦИКа, бежавших из Екатеринодара в Пятигорск. Они только и знали, что «изыскивали меры, обезоруживающие диктаторские намерения Сорокина…». Не исполняли срочных приказов, всюду вмешивались, – лезли со своим Марксом в самую душу главнокомандующего.
В салон-вагоне Сорокина опять появилась Зинка-блондиночка, – в этом чувствовалась забота Белякова. Зинка была все такая же розовенькая и соблазнительная, только голосок ее несколько осип; все ее шелковые кофточки и гитару сперли в обозе. Обращение ее с главнокомандующим стало более независимым.
По ночам, когда опускались шторы в салоне и Сорокин впадал в мрачный восторг хмеля, Зинка, побренчав на балалайке, принималась нести ту же бурду, что и Беляков: про близкий конец революции, про блистательную судьбу Наполеона, сумевшего перекинуть мост от якобинского террора к империи… У Сорокина начинали светиться глаза, билось сердце, гоня в мозг горячую кровь пополам со спиртом… Он срывал штору и глядел в окно, в ночную темноту, где ему чудились отблески его горячечной фантазии…
Натиск белых становился слабее. Красная Армия зацепилась наконец за левый берег Верхней Кубани и села в окопы. В это время из Царицына вернулся через киргизские степи командир Стальной дивизии Дмитрий Жлоба с грузовыми автомобилями. Он привез двести тысяч патронов и передал приказ кавказским войскам – двигаться на север, на помощь Царицыну, окружаемому белоказачьей армией атамана Краснова.