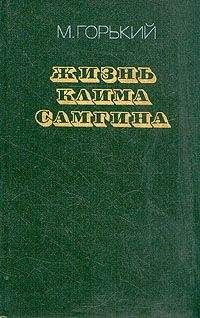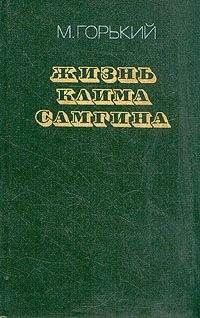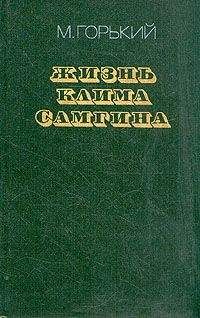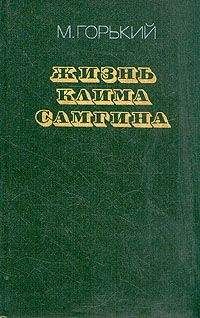Максим Горький - Жизнь Клима Самгина. "Прощальный" роман писателя в одном томе
С явным удовольствием, но негромко и как-то неумело он засмеялся, растягивая фуражку на пальцах рук.
— Он бы, конечно, зачах с голода — повариха спасла. Она его святым считает. Одела в мужево платье, поит, кормит. И даже спит с ним. Что ж?
Даром ничто не дается. Судьба
Жертв искупительных просит.
Повариха ему, философу, — судьба.
Говорил Дронов порывисто и торопливо, желая сказать между двумя припадками кашля как можно больше. Слушать его было трудно и скучно. Клим задумался о своем, наблюдая, как Дронов истязует фуражку.
— У литератора Писемского судьбою тоже кухарка была; он без нее на улицу не выходил. А вот моя судьба все еще не видит меня.
Самгину вдруг захотелось спросить о Маргарите, но он подавил это желание, опасаясь еще более затянуть болтовню Дронова и усилить фамильярный тон его. Он вспомнил, как этот неудобный парень, высмеивая мучения Макарова, сказал, снисходительно и цинично:
«Урод. Чего боится? На первый раз закрыл бы глаза, как будто касторку принимает, вот и все».
— Дядя твой рычит о любви…
— Он арестован.
— Знаю. Но у него любовь — для драки… «Это, пожалуй, верно», — подумал Клим.
— А Томилин из операций своих исключает и любовь и все прочее. Это, брат, не плохо. Без обмана. Ты что не зайдешь к нему? Он знает, что ты здесь. Он тебя хвалит: это, говорит, человек независимого ума.
— Конечно, зайду, — сказал Клим. — Мне нужно съездить на дачу, сделать одну работу; завтра и поеду…
Работы у него не было, на дачу он не собирался, но ему не хотелось идти к Томилину, и его все более смущал фамильярный тон Дронова. Клим чувствовал себя независимее, когда Дронов сердито упрекал его, а теперь многоречивость Дронова внушала опасение, что он будет искать частых встреч и вообще мешать жить.
— Тебе, Иван, не надо ли денег?
Он сам тотчас же понял, что об этом следовало спросить раньше или позже.
Дронов встал, оглянулся, медленно натянул фуражку на плоский свой череп и снова сел, сказав:
— Надо.
Получив деньги, он вытянул ногу резким жестом, сунул их в карман измятых брюк, застегнул единственную пуговицу серого пиджака, вытертого на локтях.
— Сапоги починю.
И, плюнув в темную воду пруда, рассказал зачем-то:
— Минувшим летом здесь, на глазах гуляющей публики, разделся донага и стал купаться земский начальник Мусин-Пушкин. А через несколько дней, у себя в деревне, он стал стрелять из окна волчьей картечью в стадо, возвращавшееся с выгона. Мужики связали его, привезли в город, а здесь врачи установили, что земский давно уже, месяца два-три назад тому, сошел с ума. В этом состоянии безумия он занимался очередными делами, судил людей. А Бронский, тоже земский начальник, штрафует мужиков на полтинник, если они не снимают шапок пред его лошадью, когда конюх ведет ее купать.
Посидев еще минуты две, Клим простился и пошел домой. На повороте дорожки он оглянулся: Дронов еще сидел на скамье, согнувшись так, точно он собирался нырнуть в темную воду пруда. Клим Самгин с досадой ткнул землю тростью и пошел быстрее.
Он был очень недоволен этой встречей и самим собою за бесцветность и вялость, которые обнаружил, беседуя с Дроновым. Механически воспринимая речи его, он старался догадаться: о чем вот уж три дня таинственно шепчется Лидия с Алиной и почему они сегодня внезапно уехали на дачу? Телепнева встревожена, она, кажется, плакала, у нее усталые глаза; Лидия, озабоченно ухаживая за нею, сердито покусывает губы.
Он шел встречу ветра по главной улице города, уже раскрашенной огнями фонарей и магазинов; под ноги ему летели клочья бумаги, это напомнило о письме, которое Лидия и Алина читали вчера, в саду, напомнило восклицание Алины:
— Нет, каков? Вот — хам!
«Неужели это она о Лютове? — соображал Клим. — Вероятно, у нее не один роман».
Ветер брызгал в лицо каплями дождя, тепленькими, точно слезы Нехаевой. Клим взял извозчика и, спрятавшись под кожаным верхом экипажа, возмущенно подумал, что Лидия становится для него наваждением, болезнью, мешает жить.
Приехав домой, он только что успел раздеться, как явились Лютов и Макаров. Макаров, измятый, расстегнутый, сиял улыбками и осматривал гостиную, точно любимый трактир, где он давно не был. Лютов, весь фланелевый, в яркожелтых ботинках, был ни с чем несравнимо нелеп. Он сбрил бородку, оставив реденькие усики кота, это неприятно обнажило его лицо, теперь оно показалось Климу лицом монгола, толстогубый рот Лютова не по лицу велик, сквозь улыбку, судорожную и кривую, поблескивают мелкие, рыбьи зубы.
Клима изумила торопливая небрежность, с которой Лютов поцеловал руку матери и завертел шеей, обнимая ее фигуру вывихнутыми глазами.
«Застенчив или нахал?» — спросил Клим себя, неприязненно наблюдая, как зрачки Лютова быстро бегают по багровому лицу Варавки, и еще более изумился, увидав, что Варавка встретил москвича с удовольствием и даже почтительно.
— Дядя мой, Радеев, сообщил вам…
— Как же, как же, — воскликнул Варавка, подвигая гостю кресло.
— Вы покупаете землю некоего Туробоева…
— Именно.
— Там есть спорный участок, право Туробоева на владение коим оспаривается теткой невесты моей Алины Марковны Телепневой, подруги дочери вашей…
Клим слышал, что Лютов подражает голосу подьячего из «Каширской старины», говорит тоном сутяги, нарочито гнусавя.
«Конечно, это его Алина назвала хамом…»
— …которая, надеюсь, в добром здоровье?
— Совершенно. Сегодня уехала на дачу вместе с невестой вашей…
— Сегодня-с? — со свистом спросил Лютов и привстал, упираясь руками в ручки кресла. Но тотчас же опустился, сказав: — Не взирая на дурную погоду?
Клим почувствовал в этом движении Лютова нечто странное и стал присматриваться к нему внимательнее, но Лютов уже переменил тон, говоря с Варавкой о земле деловито и спокойно, без фокусов.
Подозрительно было искусно сделанное матерью оживление, с которым она приняла Макарова; так она встречала только людей неприятных, но почему-либо нужных ей. Когда Варавка увел Лютова в кабинет к себе, Клим стал наблюдать за нею. Играя лорнетом, мило улыбаясь, она сидела на кушетке, Макаров на мягком пуфе против нее.
— Клим говорил мне, что профессора любят вас… Макаров посмеивался:
— Легче преподавать науки, чем усваивать оные… «Зачем она выдумывает? — догадывался Клим. — Я никогда не говорил ничего подобного».
Вошла горничная и сказала Вере Петровне:
— Барин просят вас…
Когда мать торопливо исчезла, Макаров спросил удивленно:
— Алина сегодня уехала? Странно.
— Почему?
— Да… так! Клим усмехнулся.
— Тайна?
— Нет, ерунда… Ты нездоров или сердит?
— Устал.
Клим посмотрел в окно. С неба отклеивались серенькие клочья облаков и падали за крыши, за деревья.
«Невежливо, что я встал спиною к нему», — вяло подумал Клим, но не обернулся, спрашивая:
— Они поссорились?
Вместо ответа Макарова раздался строгий вопрос матери:
— Разве вы не думаете, что упрощение — верный признак ума нормального?
Лютов, закуривая папиросу, криво торчавшую в янтарном мундштуке, чмокал губами, мигал и бормотал:
— Наивного-с… наивного!
Он, мать и Варавка сгрудились в дверях, как бы не решаясь войти в комнату; Макаров подошел, выдернул папиросу из мундштука Лютова, сунул ее в угол своего рта и весело заговорил:
— Если он вам что-нибудь страшное изрек — вы ему не верьте! Это — для эпатажа.
А Лютов, вынув часы, постукивая мундштуком по стеклу, спросил:
— Идем, Константин? И обратился к Варавке:
— Так вы поторопите Туробоева?
Рядом с массивным Варавкой он казался подростком, стоял опустив плечи, пожимаясь, в нем было даже что-то жалкое, подавленное.
Когда неожиданные гости ушли, Клим заметил:
— Странный визит.
— Деловой визит, — поправил Варавка и тотчас же, играя бородой, прижав Клима животом к стене, начал командовать:
— Завтра утром поезжай на дачу, устрой там этим двум комнату внизу, а наверху — Туробоеву. Чуешь? Ну, вот…
Он ушел к себе наверх, прыгая по лестнице, точно юноша; мать, посмотрев вслед ему, вздохнула и сморщилась, говоря:
— Бог мой! До чего антипатичен этот Лютов! Что нашла в нем Алина?
— Деньги, — нехотя ответил Клим, садясь к столу.
— Как хорошо, что. ты не ригорист, — сказала мать, помолчав. Клим тоже молчал, не находя, о чем говорить с нею. Заговорила она негромко и, очевидно, думая о другом: