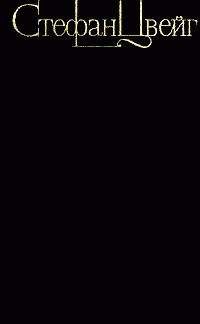Стефан Цвейг - Нетерпение сердца
— Я только провожу дам. Вы пока можете сыграть вашу партию в шахматы. Потом мне еще нужно будет сделать кое-какие приготовления к отъезду, но через час я вернусь.
— Хотите сыграть? — спросил я Эдит вполне непринужденно, в то время как гости выходили из комнаты.
— С удовольствием, — ответила она, опустив глаза.
Эдит смотрела вниз, пока я тщательно, чтобы выиграть время, расставлял фигуры. По старому правилу, чтобы решить, кому начинать, мы обычно прятали за спиной черную или белую фигуру. Но сейчас такой прием заставил бы нас заговорить, произнести хотя бы одно слово: «в правой» или «в левой»; даже этого мы оба постарались избежать. Лишь бы не разговаривать! Запереть все мысли в квадрат из шестидесяти четырех клеток! Не отрываясь смотреть только на фигуры, не глядеть даже на пальцы, которые их передвигают! Мы притворялись, что увлечены игрой, как самые заядлые шахматисты, забывающие во время игры обо всем на свете.
Но вскоре сама игра обнаружила наше притворство. В третьей партии Эдит окончательно спасовала. Она делала неверные ходы, дрожь ее пальцев ясно говорила, что ей не выдержать этого неестественного молчания. Посреди игры она отодвинула доску.
— Хватит! Дайте мне сигарету.
Я вынул из гравированного серебряного портсигара сигарету и услужливо зажег спичку. Когда вспыхнул огонек, я не мог не взглянуть Эдит в глаза. Их застывший взгляд не был направлен ни на меня, ни на какой-либо определенный предмет: словно замороженные ледяным гневом, они выжидали, отчужденно и неподвижно, а над ними напряженно вздрагивали дуги бровей. Я сразу понял — это знак, предвещающий грозу.
— Не надо! — произнес я, не на шутку испугавшись. — Пожалуйста, не надо!
Но она откинулась на спинку кресла. Я видел, как дрожь пробегала по всему ее телу и пальцы все глубже впивались в подлокотники.
— Не надо! Не надо! — Кроме этих умоляющих слов, пне ничего не приходило в голову. Но плотина уже прорвалась. Это были не бурные, громкие рыдания, а — что еще страшней — тихий, надрывающий душу плач с закушенной губой, плач, который стыдится самого себя, но который невозможно унять.
— Не надо! Прошу вас, не надо! — повторил я и, чтобы успокоить ее, наклонившись, положил ладонь ей на руку. Точно электрический ток пробежал по ее руке и плечу.
В ту же секунду дрожь утихла, снова наступило оцепенение, она больше не шевелилась. Все тело ее словно ждало, прислушивалось, стараясь понять, что скрывалось за моим прикосновением: означало ли оно нежность, любовь или только сострадание? Было страшно глядеть, как она ждала, не дыша, ждала всем своим чутко внимавшим телом. Я не находил в себе мужества убрать руку, которая так чудодейственно, в один миг укротила нахлынувшие рыдания; с другой стороны, у меня не было сил, чтобы заставить свои пальцы сделать какое-нибудь ласковое движение, которого Эдит, ее пылающая кожа — я чувствовал это — ожидали с таким нетерпением. Моя рука лежала как чужая, и у меня было такое ощущение, будто вся кровь Эдит, горячая, пульсирующая, прилила к одному этому месту, устремляясь ко мне.
Я не знаю, долго ли оставалась моя ладонь безвольно лежать на ее руке, потому что время, казалось, стояло без движения, как воздух в комнате. Потом я почувствовал, что Эдит начинает тихонько напрягать мускулы. Не глядя на меня, она правой рукой мягко сняла мою ладонь со своей и потянула к себе; медленно притягивала она ее все ближе к сердцу, и вот, робко и нежно, к ее правой руке присоединилась левая. Очень мягко взяли они мою большую, тяжелую мужскую руку и принялись ласкать ее нежно и боязливо. Сначала ее тонкие пальцы блуждали, словно любопытствуя, по моей неподвижной ладони, почти не касаясь ее, подобно легким дуновениям. Затем я почувствовал, как эти робкие, детские прикосновения отважились пробежать от запястья до кончиков пальцев, как они внутри и снаружи, снаружи и внутри, вкрадчиво и испытующе исследовали все выпуклости и впадины, как они сначала испуганно замерли, дойдя до твердых ногтей, но потом и их ощупали со всех сторон и снова пробежали до самого запястья и опять вверх и вниз, вверх и вниз, — это было, знакомство, ласковое и робкое, таксе, при котором она бы никогда не осмелилась по-настоящему крепко взять мою руку, сжать, стиснуть ее. Словно струйки теплой воды омывали мою ладонь — такой шаловливо-застенчивой, бережной и стыдливой была эта ласка-игра. И все же я чувствовал, что в частице моего «я», отданного ей во владение, влюбленная обнимала всего меня. Непроизвольно голова ее откинулась на спинку кресла, словно для того, чтобы с еще большим удовольствием наслаждаться невинной лаской; она лежала передо мной, будто задремав или грезя, — с закрытыми глазами, чуть приоткрытым ртом, и выражение полного покоя смягчало и в то же время изнутри озаряло ее лицо, а тоненькие пальцы ее снова и снова с упоением пробегали по моей руке от запястья до кончиков ногтей. В этой ласке не было никакого вожделения — лишь тихая радость оттого, что она наконец-то, хоть на мгновение, может обладать какой-то частичкой моего тела и выразить свою безграничную любовь. Ни в одном женском объятии, даже в самом пылком, мне не приходилось с тех пор ощущать такую бесконечную нежность, какую я познавал в этой легкой, почти мечтательной игре.
Не помню, как долго это продолжалось. Такие переживания существуют вне привычного хода времени. От робких прикосновений и поглаживаний исходило что-то одурманивающее, обольщающее, гипнотизирующее; они волновали и потрясали меня больше, чем жгучие поцелуи в ее спальне. Я все еще не находил в себе сил отнять руку («Лишь позволь мне любить тебя», — вспомнилось мне) — в тупом оцепенении, словно во сне, наслаждался я этой лаской, струившейся по моей коже, и я покорился ей, бессильный, беззащитный, в то же время в глубине души испытывая стыд оттого, что меня так безгранично любили, а я сам не испытывал ничего, кроме робости и смятения.
Но постепенно мое собственное оцепенение стало для меня невыносимо: утомляла не ласка, не блуждание по моей руке теплых, нежных пальцев, не их легкие-и пугливые прикосновения, меня мучило то, что моя рука лежала как мертвая, словно и она и человек, ласкавший ее, были мне чужими. Я смутно понимал (так слышишь в полусне звон колоколов на башне), что должен либо уклониться от этой ласки, либо ответить на нее. Но у меня не было сил сделать то или другое, мне хотелось только одного: скорее покончить с этой опасной игрой; и вот я осторожно напряг мускулы и очень медленно начал высвобождаться из невесомых пут — незаметно, как я надеялся. Но обостренная восприимчивость моментально, еще раньше, чем я сам осознал свое намерение, подсказала Эдит смысл этого движения, и в испуге она сразу освободила мою руку. Ее пальцы словно вдруг отпали, кожа моя перестала ощущать струящееся тепло. Смутившись, я убрал руку, ибо в ту же секунду лицо Эдит потемнело, она опять по-детски надула губы, их уголки уже начали вздрагивать.
— Не надо! Не надо! — прошептал я ей, другие слова не приходили мне на ум. — Сейчас войдет Илона. — И, так как я видел, что от этих пустых, беспомощных слов ее дрожь только усилилась, во мне опять внезапно вспыхнуло чувство сострадания. Я наклонился к Эдит и быстро коснулся губами ее лба.
Но зрачки ее серых глаз смотрели строго и отчужденно, она глядела как бы сквозь меня, будто угадывала мои тайные мысли. Я не сумел обмануть ее ясновидящее чувство. Она поняла, что я сам, отняв руку, уклонился от ее ласки и что торопливый поцелуй означал не любовь, а лишь смущение и жалость.
Это было ошибкой, непоправимой, непростительной ошибкой, несмотря на искренность моих добрых намерений, я не проявил великого терпения и не нашел в себе сил, чтобы притвориться. Напрасным оказалось мое стремление ничем — ни словом, ни взглядом, ни жестом — не дать ей заподозрить, что ее нежность меня тяготит. Снова и снова вспоминал я предостережения Кондора о том, какая ответственность ляжет на меня, сколько вреда я причиню, если обижу этого легко ранимого человека. «Позволь ей любить тебя, — без конца повторял я себе, — притворись на эти восемь дней, но пощади ее гордость. Не дай ей заподозрить, что ты обманываешь ее, обманываешь вдвойне, когда с доброй уверенностью говоришь о ее скромном выздоровлении, а сам внутренне дрожишь от страха и стыда. Веди себя непринужденно, совсем непринужденно, — снова и снова увещевал я себя, — постарайся придать своему голосу сердечность, своим рукам ласковую нежность».
Но между женщиной, которая однажды призналась в своем чувстве мужчине, и этим мужчиной все становится накаленным, таинственным и опасным, даже воздух. Любящие обладают каким-то сверхъестественным даром угадывать подлинные чувства любимого, а так как любовь, по извечным законам, всегда стремится к беспредельному, то все обычное, все умеренное претит ей, невыносимо для нее. В сдержанности любимого она подозревает сопротивление, в малейшей уклончивости с полным правом видит скрытую оборону. Наверное, в те дни в моих словах звучала какая-то фальшь, а в моем поведении чувствовались какая-то неловкость и замешательство — как я ни старался, мне не удалось обмануть Эдит. Неудача постигла меня в самом главном: я не мог убедить ее, и она с тревогой недоверия ощущала все острее, что я не даю ей того единственного, того настоящего, чего она жаждала: любви в ответ на любовь. Иногда посреди разговора, как раз в тот момент когда я усерднее всего добивался ее доверия, ее сердечности, она вдруг бросала на меня испытующий взгляд своих серых глаз, и я опускал ресницы. При этом у меня было такое чувство, будто она вонзала в меня какой-то зонд, чтобы исследовать самую глубину моего сердца.