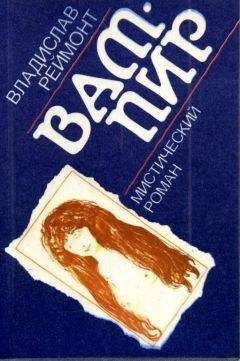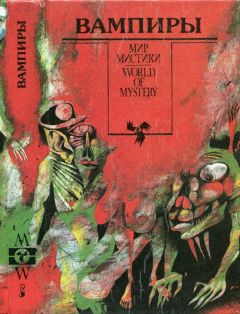Владислав Реймонт - Мужики
— И как это Иисус захотел столько вытерпеть!
Так они рассуждали, когда Рох кончил, а он им пояснял:
— Это потому, что он только муками своими и жертвой мог спасти людей. Если бы не он, давно нечистый завладел бы миром.
— Он и так у нас немалую силу имеет, — пробормотала Ягустинка.
— Властвуют над людьми грех да злоба, а они, кумовья черту!
— Э, кому это ведомо!.. Одно мы знаем — что человеком злая судьба правит, вот и мучайся и терпи…
— Грешно так говорить, это вас злость на детей ослепила, — сурово пожурил ее Рох, и она больше не спорила.
Примолкли в раздумье и остальные, а Шимек встал с места и хотел было незаметно выйти.
— Куда это ты так спешишь? — прошипела Доминикова, от которой ничто не могло укрыться.
— Жарко здесь, похожу по деревне, — в испуге пробормотал Шимек.
— К Настке несет тебя?
— Ну, и что? Не запретите, не удержите! — сказал он уже резко, но все-таки бросил шапку на сундук.
— Домой ступайте оба с Енджиком, оставили хату на волю божию! За коровами присмотрите и ждите меня, я зайду за вами, и все вместе в костел пойдем, — приказывала Доминикова. Но сыновьям не хотелось сидеть в пустой хате, и они предпочли остаться здесь, а она их больше не гнала. Через минуту она поднялась и взяла со стола облатку.
— Витек, зажги фонарь, пойдем к коровам! В ночь Рождества всякая скотина понимает человеческую речь и может говорить — оттого, что среди них родился Сын божий. Если с ними заговорит безгрешный человек, они отвечают человечьим голосом. В эту ночь звери людям равны, чувствуют то же, что и люди. Значит, надо с ними облатками поделиться.
Все отправились в хлев, — Витек с фонарем шел впереди.
Коровы лежали рядом и медленно жевали жвачку, но свет и голоса их встревожили, они стали мычать, грузно приподниматься и поворачивать большие тяжелые головы.
— Ты хозяйка, Ягуся, значит тебе и разделить между ними. Они у тебя болеть не будут и лучше будут телиться. Да помни, завтра утром доить их нельзя, только вечером, а то у них молоко пропадет.
Ягна разломила облатку на пять частей и, нагибаясь к каждой корове, крестила головы между рогами и клала каждой по кусочку облатки в рот, на широкий шершавый язык.
— А лошадям не дадите? — спросила Юзька.
— Нет, им нельзя, они не были при рождении Христа.
Когда возвращались в дом, Рох говорил:
— Каждая тварь, — каждая травка и камешек, даже вот эта звездочка, чуть приметная, — все нынче знает, что Христос родился. Все на свете имеет душу, все ждет своего часа. Самый маленький червячок, всякая былинка свою службу несет и по-своему приобщается к славе божией. И только в эту ночь, единственную в году, все просыпается, вслушивается и ждет, когда Господь скажет: "Встань, оживи, душа!" И приходит час этот для одних, а для других еще нет, и они опять лягут в прах и будут терпеливо ожидать рассвета — в виде ли камней, или воды, земли, деревьев, кому как Бог определил!
Все молча слушали Роха, размышляя над его словами, только Борыне и Доминиковой не верилось, что это правда, и, как они ни раздумывали, а понять этого не могли. Конечно, воля господня неисповедима и творит чудеса, но чтобы камни и деревья имели душу!.. Нет, это у них не укладывалось в голове. И они скоро перестали об этом думать, так как пришло все семейство кузнеца.
— Посидим у вас, отец, и все вместе пойдем в костел, — сказал кузнец.
— Садитесь, садитесь, вместе веселее! Вот и вся наша семья в сборе, только Гжели нет.
Юзя сердито посмотрела на отца: она подумала об Антеке и Ганке, но сказать ничего не посмела.
Снова все уселись перед огнем, только Петрик остался на дворе — он колол дрова, чтобы хватило топлива на праздники, а Витек носил их охапками и укладывал в сенях.
— Да, чуть было не забыл! Догнал меня войт и просил, чтобы Доминикова сейчас же шла к ним — жена у него уже кричит, надрывается, — должно быть, ночью родит.
— А я хотела со всеми в костел идти! Но если ты говоришь, что кричит, — побегу к ней, взгляну. Была я там утром и думала, что она еще несколько дней проходит.
Доминикова пошепталась о чем-то с женой кузнеца и ушла к войту. Она не одного человека в деревне вылечила лучше всяких докторов.
А Рох стал рассказывать всякие старые предания, подходящие к этому дню. Рассказал он и такую легенду:
— Давно это было, столько лет назад, сколько прошло от Рождества Христова. Шел богатый мужик с ярмарки, где продал он пару славных телят. Деньги он хорошо спрятал в сапоге, в руках у него была здоровенная палка, да и сам он был силен, — пожалуй, первый силач в их деревне. Однако он торопился до ночи попасть домой, потому что в те времена в лесах скрывались разбойники и не давали проходу добрым людям.
Было это, должно быть, в летнюю пору — лес стоял зеленый, полный ароматов и веселого гомона. Но вдруг поднялся сильный ветер, и лес зашумел верхушками. Мужик шел быстро, как только мог, и со страхом озирался вокруг, да ничего такого не примечал. Стояли себе елка за елкой, дуб за дубом, сосна за сосной, и нигде ни живой души, только птички летали меж деревьев. А ему все страшнее становилось, потому что он проходил мимо креста, через такую чащу, куда и глаз не проникал, а в этом-то месте и нападали на путников разбойники. Он прочитал вслух молитву и побежал во весь дух.
Уже он благополучно выбрался из высокого леса и шел меж мелких сосенок и кустов можжевельника, уже впереди колыхались зеленые поля и слышал он плеск реки, пенье жаворонков, уже и людей увидел вдали, шедших за плугами, и даже аистов, которые вереницей тянулись к болотам. Уже донес до него ветер аромат цветущих вишневых садов… как вдруг из последних кустов выскочили разбойники! Их было двенадцать, и все с ножами! Мужик защищался, но они скоро его одолели, а так как он не хотел отдать деньги по доброй воле и кричал, они повалили его на землю и уже занесли ножи, чтобы его зарезать, но вдруг окаменели все на месте, как стояли, с занесенными ножами, согнутые, недвижимые и страшные. И все вокруг в тот же миг остановилось. Птицы замолкли и повисли в воздухе, реки перестали течь, не двигалось солнце, ветер утих. Деревья, как их пригнул ветер, так и остались… И колосья тоже. Аисты словно вросли в небо распростертыми крыльями. Даже пахарь в поле застыл с поднятым кнутом. Весь мир в одно мгновение окаменел.
Неизвестно, как долго это продолжалось, но вдруг раздалось над землей пение ангелов:
Бог родится, зло теряет силу!
И все сразу ожило, задвигалось, но разбойники не тронули мужика, увидев в этом чуде предостережение. И пошли за голосами ангельскими к хлеву в Вифлееме поклониться новорожденному вместе со всем, что живет на земле и в воздухе.
Дивились все тому, что рассказывал Рох, а после него и Борына и кузнец стали припоминать всякие сказания.
В конце концов Ягустинка, все время молчавшая, сказала резко:
— Мелете тут, мелете, а только и пользы от этого, что время скорее проходит! Неужели правда, что когда-то с неба сходили благодетели разные и не давали погибнуть бедным и обиженным? Так почему же теперь таких что-то не видно? Или сейчас на свете меньше горя, меньше нужды, меньше мук сердечных? Человек — все равно что пташка беззащитная, задушит ее ястреб, или зверь какой, или голод, или смерть сама прикончит, — а вы тут толкуете о милосердии, тешите глупых людей да обманываете, что придет избавление! Не избавление придет, а антихрист! Вот этот нам покажет справедливый суд, этот смилуется над нами, как ястреб над цыпленком.
Рох вскочил с места и закричал:
— Женщина, не богохульствуй, не греши! Не слушай наущений дьявола, иначе будешь гореть в геенне огненной!
Тем временем Витек, сильно взволнованный открытием, что в эту ночь коровы могут говорить по-человечьи, потихоньку вызвал из комнаты Юзьку, и оба побежали в хлев.
Держась за руки, дрожа от страха и поминутно крестясь, они шмыгнули в коровник…
Стали на колени около самой большой коровы, как бы матери всего хлева. Они еле дышали от волнения, слезы набегали на глаза, их души трепетали в священном ужасе, ибо они в сердечной простоте всему верили. Витек нагнулся к самому уху коровы и дрожащим голосом шепнул:
— Сивуля! Сивуля!
А Сивуля не отозвалась ни единым словом, только сопела, жевала, шевеля губами…
— Что же это с ней, отчего она не отвечает? Может, ее Бог покарал?
Они стали на колени около другой, и опять Витек позвал, уже чуть не плача:
— Пятнуха! Пятнуха!
Оба пригнулись к ее морде и слушали, затаив дыхание, но ничего не услышали, ни одного слова.
— Грешные мы, видно, вот ничего и не услышим. Ведь они только безгрешным отвечают, а мы грешники!