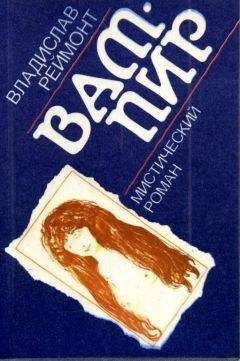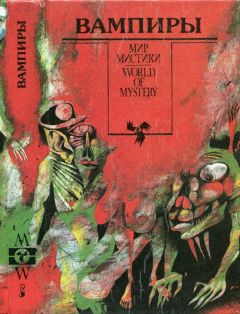Владислав Реймонт - Мужики
— Мы с ней в этих делах больше тебя понимаем. Уж ты мне поверь! Что у нас сейчас? Рождество… Значит, это будет в июле, в самую жатву… Время неподходящее, жара, страда, ну, да что же делать… и за это надо Бога благодарить.
Он опять хотел ее поцеловать, но она сердито вырвалась и побежала к матери с упреками. Однако старуха решительно поддержала Борыну.
— Неправда, это вам только показалось! — горячо возражала Ягна.
— Да ты, я вижу, не рада?
— А чему радоваться? Мало ли хлопот и без того, а тут еще новое наказание!
— Не ропщи, Господь покарает!
— Ну и пускай, пускай карает!
— А почему ты так от этого открещиваешься, а?
— Не хочу — и все!
— Да ведь если будет у тебя ребенок, а старик, упаси бог, помрет, так ты, кроме того, что тебе записано, еще и на ребенка получишь, а может, и вся земля твоя будет.
— У вас одно на уме — земля и земля! А мне это ни к чему.
— Молода ты еще и глупа, вот и плетешь вздор! Человек без земли все равно как без ног: тычется, тычется, а никуда не дойдет. Ты смотри у меня — с Мацеем насчет этого не спорь, ему обидно будет.
— Не буду молчать, что мне Мацей!
— Ну, болтай себе хотя бы перед всем светом, коли ума нет, а мне дай спокойно хлеб из печи вынуть, а то сгорит. Займись-ка ты лучше делом: селедки надо из воды в молоко переложить, — не так солоны будут. А Юзя пускай натрет мак. Столько надо сделать еще, а вечер близко!
Вечер действительно стоял на пороге. Солнце опустилось за леса, вечерняя заря разливала по небу потоки крови, и снег пылал, словно посыпанный раскаленными угольями. Деревня засыпала. Еще таскали воду с озера, рубили дрова, иногда кто-нибудь проезжал в санях и, спеша домой, так гнал лошадей, что у них громко екали селезенки. Еще люди бегали через озеро, там и сям скрипели ворота, звучали голоса, но мало-помалу угасал закат, мрачная синева одевала землю, — и замирала жизнь деревни, затихали дворы, пустели улицы. Дальние поля погружались во мрак, быстро подходил зимний вечер и завладевал землей, а мороз все крепчал, и громче скрипел снег под ногами, и стекла покрывались чудесными цветами и узорами.
Вот уже деревня пропала, словно растаяла в сером снежном сумраке, не видно было ни домов, ни плетней, ни садов, только огоньки светились, и сегодня их было больше, чем всегда, потому что во всех избах шли приготовления к рождественскому ужину.
В каждой избе, и у богачей и у последней голытьбы, спешили приодеться и благоговейно ожидали первой звезды. В углу у восточной стены ставили сноп пшеницы, столы застилали беленым холстом, а под него подстилали сено. И все поглядывали в окна, — взошла ли уже звезда. Но, как всегда в морозные вечера, звезды выглянули не сразу: едва догорел закат, небо стало словно дымом затягиваться и было какое-то бурое.
Юзя и Витек здорово промерзли — они стояли на крыльце, пока не увидели первую звезду.
— Есть! Вот она! — заорал Витек.
На этот крик выглянул из хаты Борына, вышли остальные, и последним — Рох.
Да, звезда появилась: на востоке, у самого края неба, разорвалась бурая завеса, и из темносиних глубин родилась звезда.
Казалось, она росла на глазах, летела, брызгала светом, разгораясь все ярче, и была уже так близко, что Рох встал на колени на снегу, а за ним и другие.
Вот она, звезда трех волхвов, Вифлеемская звезда, при свете которой родился Господь наш Иисус, да будет благословенно его имя!
Все впились глазами в этот далекий свет, свидетель чуда, знамение милости божией к человеку. И с чувством горячей благодарности, с глубокой верой принимали они сердцем это чистое сияние, священный огонь, как некое таинство, очищающее от зла.
Звезда все росла, неслась уже, как огненный шар, и тянулись от нее голубые лучи, искрились в снегу и светлыми молниями прорезали тьму, а за первой звездой, как верные слуги, несчетной чередой выходили на небо другие, и небо, покрытое этой светлой росой, развернулось над миром голубым покровом, утыканным серебряными гвоздями.
— Время ужинать. Слово стало плотью, — сказал Рох.
Все вернулись в дом и уселись вокруг стола.
На первом месте сел Борына, за ним — Доминикова с сыновьями, Рох, Петрик и Витек рядом с Юзей. Одна только Ягуся присаживалась ненадолго, — ей надо было подавать.
Торжественная тишина наступила в комнате.
Борына, перекрестясь, разделил облатку между всеми; ее ели благоговейно, как святое причастие.
И хотя все были голодны, потому что весь день ничего не ели, кроме сухого хлеба, ужинали не торопясь и чинно.
На первое был свекольный борщ с грибами и целыми картофелинами, затем сельди, обвалянные в муке и поджаренные на конопляном масле, пшенные клецки с маком, за клецками — капуста с грибами, политая постным маслом, а напоследок Ягуся подала настоящее лакомство — лепешки из гречневой муки с медом, жаренные в маковом масле. И все это заедали простым хлебом, потому что ни ватрушек, ни пирогов в этот день есть не полагалось: они были на молоке и коровьем масле.
Ужин тянулся долго, и редко кто-нибудь произносил слово: слышен был только стук ложек и чавканье. Борына часто срывался с места, чтобы помочь Ягусе, и старуха его даже побранила:
— Сидите, ничего ей не сделается, не скоро еще… Она первое Рождество на своем хозяйстве справляет, так пусть приучается.
Лапа тихонько скулил, тыкался мордой всем в колени и ластился, словно прося, чтобы и его поскорее накормили. Аист, у которого было свое место в сенях, часто стучал клювом в стену и громко курлыкал, а куры откликались с насестов.
Еще ужин не кончился, когда вдруг постучали в окно.
— Влезет в дом и уже на весь год останется! — закричала Доминикова.
Все опустили ложки и с беспокойством прислушивались. Стук повторился.
— Кубина душа! — шепнула Юзя.
— Не болтай глупостей этот, верно, нищий. В такой день, как сегодня, не должно быть голодных и бездомных, — промолвил Рох и пошел отворять.
Это пришла Ягустинка. Она смиренно остановилась на пороге и сквозь слезы, градом катившиеся из глаз, тихо вопросила:
— Приютите меня где-нибудь и дайте хоть то, что собаке бросаете. Пожалейте сироту… Думала, дети меня позовут… Ждала… В хате мороз… Напрасно я мерзла, напрасно ждала… Иисусе! А теперь вот, как нищенка… дети родные… одну меня оставили, без крошки хлеба. Хуже собаки… А у них там весело, шумно, полно народу… Ходила я вокруг дома… в окна заглядывала. Все напрасно…
— Садись с нами. Надо было сразу с вечера прийти, не дожидаться милости от детей. Вот в гроб они тебе охотно последние гвозди вколотят, чтобы знать наверное, что ты уже не встанешь!
И Борына с готовностью указал ей место подле себя. Но Ягустинке кусок не шел в горло, хотя Ягуся ей ничего не жалела и угощала от всего сердца. Она сидела молча, съежившись, уйдя в себя, и только вздрагивавшие плечи выдавали муку, терзавшую ее сердце.
Тихо было в избе, все сидели растроганные, торжественные, словно среди них лежал в яслях младенец Иисус.
Большой огонь весело трещал в печи и освещал всю горницу, блестели образа, розовели замерзшие стекла. После ужина все сели в ряд перед огнем и тихо разговаривали.
Потом Ягуся сварила кофе, и его пили не спеша. Рох вынул из-за пазухи книжку, обмотанную четками, и начал читать вслух, тихим, взволнованным голосом:
— "…Дева родила сына. В земле Иудейской, в Вифлееме, родился Господь в бедности, на сене, в убогом хлеву среди ягнят, и они в эту радостную тихую ночь были ему братьями. И та самая звезда, что и сегодня светит, сияла в тот час для святого младенца и указывала дорогу трем волхвам, которые спешили с дарами из дальних стран, из-за безбрежных морей, из-за суровых гор, чтобы потом свидетельствовать об истине".
Долго Рох читал это сказание, и голос его креп, становился певучим, как будто он служил обедню в костеле, а все сидели и слушали в благоговейном молчании.
"Эх, Иисусе, любимый, пришлось тебе родиться в убогом хлеву, в дальних краях, среди поганых еретиков, и в такой мороз, бедное святое дитятко!" — думали они, и думы их уносились, как птицы, в ту землю святую, к тем яслям, над которыми пели ангелы, припадали к ножкам младенца Иисуса, отдавались ему на веки вечные.
Впечатлительная и добрая Юзя горько плакала над злой долей Иисуса, плакала и Ягуся, закрыв лицо руками, и слезы текли у нее сквозь пальцы. Чтобы скрыть их, она пряталась за спину Енджика, а тот слушал с открытым ртом и, дивясь всему услышанному, поминутно дергал Шимека за кафтан и вскрикивал:
— Ишь ты! Слышишь, Шимек?
Но сразу умолкал под грозным взглядом матери.
— Даже колыбельки не было у горемычного!
— Просто чудо, что не замерз!
— И как это Иисус захотел столько вытерпеть!