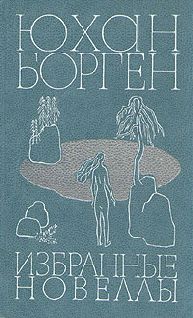Юхан Борген - Темные источники
Ни разу прежде не знал он так твердо, чего ищет, как в этот день. Уверенность не покинула его и к вечеру, когда он снова пошел в лес и ему казалось, что искомое близко. Но оно ускользало от него, и на другой день, когда ему сказали, что Поэт уехал, ускользнуло совсем. Казалось, Вилфреда осенило на лету крыло могучей птицы – отеческое крыло.
Несколько недель спустя, бродя по холмам, он вдруг обнаружил в кармане погремушку – маленькую целлулоидную погремушку с желтой костяной ручкой. Откуда, черт возьми, она взялась? Он поднес ее к лицу, прекрасно зная откуда. Но он хотел избежать ответа, причиняющего боль, поэтому старался не вспоминать, как однажды хмурым и холодным утром, когда он думал, что за ним гонятся, он купил ее ребенку. И тут его поразила мысль, что в то копенгагенское утро он недаром отправился на яхту «Илми». Потом он внушил себе, что его погнал туда страх: он боялся искать другого пристанища, предполагая, что его преследуют. На самом же деле он хотел избавиться от ребенка.
Теперь он знает, что хотел утопить ребенка. Он навязал его себе на шею без дурного умысла, разве что по беспечности – так он, во всяком случае, думал тогда. Но он привык избавляться от того, что ему мешает. Вот он и отправился к заливу, чтобы утопить ребенка, – никто бы об этом не узнал. Он распорядился, чтобы ему подогнали шлюпку. На ней он мог переправиться на берег, и никто бы его не заметил. Позже, когда он подплыл к берегу с ребенком, он устроил из этого целое представление: вызвал такси, настойчиво демонстрировал сторожу, что при нем ребенок. Но тайное намерение гнездилось в нем. Только он ничего не доводит до конца – будь то живопись, будь то убийство...
Вилфред бродил по холмам, вспоминая, как когда-то спас от смерти маленького Тома, некоего сына некоего садовника, который превратился в контрабандиста. Его он тоже едва не оставил погибать. Когда он увидел Тома на дне, разве у него не мелькнула мысль: «Пусть себе там и останется»? Но тут он услышал крики. А потом увидел на холме Эрну в желтом купальнике, а потом оказался верхом на полумертвом Томе и милосердно вернул его к жизни на глазах у зрителей.
А Андреас? Его он предал – отчасти выручил, но тут же предал, подверг опасности, по тогдашним обстоятельствам весьма серьезной: опасности быть исключенным из школы и попасть в число отверженных. И не стать бы тогда Андреасу преуспевшим биржевиком, не носить фамилии Эрн. А его чахлому отцу под пальмой не видать ни яхты, ни геральдических украшений. А ведь для этого они в конечном счете и живут на свете, ради крохотного престижа, ради цели, которая ничуть не хуже других мелких жизненных целей, например без ошибок и мило сыграть Моцарта, чтобы увидеть, как сблизились, аплодируя, прозрачные руки дяди Рене вместе с десятком, а то и с тысячей других рук.
Лицо Мириам, когда она со скрипкой в руке выходила в зал к зачарованным слушателям... Нет, она шла не за тем. Она была из другого теста. Она шла, чтобы убедиться в том, что на свете существует нечто подлинное, – шла к завершению, которое подкрепляло нечто, живущее в ее собственной душе.
Есть на свете источники светлые и источники темные. Мириам и ее сородичи веками бродили вдоль темных источников, но кое-кто из них выжил с уверенностью в том, что знает, откуда идет свет. Другие устроены так, что вообще замечают в жизни только ее светлую сторону – светлую для них самих; они глядятся в зеркало источника и видят там победоносного орла, даже если сами они засижены мухами за долгие годы жизни на Фрогнервей. Есть также на свете люди вроде дяди Рене, исполненные веры в то, что им самим не принадлежит, – какой-нибудь собор в Париже придает в их глазах смысл всему сущему и надежду на причастность к нему.
В своей вере он неутомим. Удивительное дело. Эта неутомимость роднит его с Эгоном – независимо от того, из темных или светлых источников черпает каждый свою силу. А Андреас и его честолюбивый отец, которые, глядя, как заходит солнце, чувствуют неодолимую потребность приподняться на могучих крыльях, пусть хоть в самое последнее мгновение... Даже мать по-своему неутомима. Все они разменивают день за днем, не мучаясь необходимостью ежеминутно делать выбор. А Роберт? Он тоже неутомим в своем бесцветном оптимизме, в своем доброжелательстве к себе самому и к другим. Это роднит их всех, даже Селину, которую носит от одного к другому, точно подхваченный ветром трамвайный билет. Похоже, что все они неутомимы, не бывает у них чувства, что все на свете обрыдло.
Об этом можно было спросить у него – у Поэта. Наверное, он что-нибудь об этом знает, ведь он вмещает в себя всех людей. Наверняка он бросил бы на Вилфреда сердитый взгляд, буркнул бы что-нибудь вроде: «Займитесь-ка вы делом, молодой человек!» Удивительно, что при всем вопиющем безрассудстве того, что он сочинил и чем завлек молодежь, в нем самом есть что-то на редкость трезвое, и, наверное, это ему мешает. Но, если бы Вилфред осмелился задать Поэту вопрос о самом главном, о самом заветном, как знать, не увидел ли бы он тот знакомый по фотографиям бесконечно грустный взгляд, который говорит, что, может быть, даже весь его огромный жизненный опыт – бездонное ничто, не ведающее своих начал.
Никогда прежде Вилфред не ходил так много, он даже похудел от ходьбы. Это причиняло неудобства, когда ему случалось заночевать на сеновале. Весной сена уже нигде не было, и у него саднили бедра и спина, когда, лежа на жестком, он ощущал собственные кости. Ему все больше и больше хотелось взмолиться, чтобы кто-нибудь ему помог.
Время от времени, взяв себя в руки, он решался зайти на какой-нибудь хутор, чтобы попросить работы. Но в эту пору растущей безработицы по дорогам шаталось много бродяг, да и работник из него был никудышный. На одном из хуторов его обещались накормить и приютить на ночлег, если он починит ограду и водворит на место старые ворота. Но хозяин стоял и смотрел на Вилфреда, пока он работал, и все его умение втирать очки испарилось в присутствии этого кряжистого крестьянина, знавшего толк в своем деле и подозрительно улыбавшегося, глядя на него. Зато оказалось, что в некоторых усадьбах была нужда в ком-нибудь, кто умеет играть на пианино: после войны в этих домах оказались дорогие инструменты, к которым никто не решался прикоснуться, а хозяевам хотелось услышать, как они звучат. У Вилфреда еще оставалось немного денег, вырученных от продажи картин, но купить у хуторян еду было невозможно. Во время последнего пребывания Вилфреда в Энебакке Валдемар Матиссен снабдил его продовольственными карточками, но он их уже израсходовал. Чаще всего Вилфред питался сладкими булочками, которые продавались в деревенских лавчонках и на железнодорожных станциях. Но изредка ему перепадало обильное угощение: каша с маслом, большие куски мяса с салом и подливкой. А если ему удавалось припрятать кусок мяса, чтобы захватить с собой, лучшего и желать было нельзя: тогда он садился на опушке леса со своей завернутой в просалившуюся газетную бумагу едой и, глядя на уютно освещенные окна хуторов, чувствовал полное блаженство. Но только он редко отваживался обращаться к людям, он и прежде не любил, когда его расспрашивают, а деревенские жители подробно и без церемоний расспрашивали обо всем – откуда он и куда держит путь. Неположенное это дело, чтобы человек являлся ниоткуда и никуда не шел. Только что окончилась война, по дорогам шатается невесть кто. Вилфред никогда никого не встречал, но ему об этом рассказывали. Все, с кем он отваживался заговорить, рассказывали, что в стране царит нужда и по дорогам шатается всякий сброд – в устах хуторян это звучало обвинением.
В один прекрасный день Вилфред оказался в той долине, где жила тетя Клара, где поселилась, получив свою пенсию, стойкая тетя Клара, вечно облизывавшая губы своим пепельно-серым языком, тетя Клара, отказавшаяся говорить по-немецки в мире, который шел вразрез с ее принципами. Теперь она занималась с детьми строительного подрядчика и преподавала в местной школе. Она жила в новом домике, построенном подрядчиком и лишенном какого бы то ни было стиля или индивидуальных примет,– как раз то, что ей подходило. Вилфред в отдалении кружил вокруг дома, был холодный весенний день, дул пронизывающий ветер, солнце едва светило, и он еле держался на ногах.
И тут вдруг на крыльце, собираясь куда-то идти, появилась тетя Клара: прямая, серая и маленькая, стояла она под блеклыми лучами солнца. Она не вытаращила глаза, увидев Вилфреда. Добрейшая тетя Клара. Облизнув губы кончиком сухого, пепельно-серого языка, она предложила племяннику зайти в дом и не стала докучать ему чрезмерной заботливостью. Она только бросила быстрый взгляд на его стоптанные башмаки, подметки которых угрожающе отставали. Она рекомендовала Вилфреда подрядчику, чтобы он репетировал его троих детей, и послала к местному сапожнику, который шил обувь из настоящей кожи. Вышло как-то само собой, что Вилфред поселился у тети Клары, и точно так же вышло само собой, что она не сочла нужным оповещать окружающих о том, что к ней случайно явился племянник, у которого каникулы и который слегка обносился в дороге.