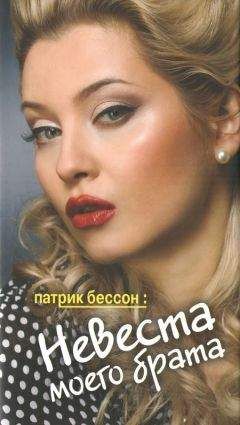Владислав Крапивин - Бронзовый мальчик
— Найдем куда прибить, — ответил маленький Рюпа.
Дядька пожал плечами. «Жигуленок» уехал. На всякий случай записали его номер…
А галстуков на клене прибавилось. Говорят, приходили незнакомые ребята, оставляли свои. Было теперь здесь и несколько разноцветных — от скаутских и разных других отрядов. Но особенно густо горели на солнце алые. И клен был словно опять охвачен пламенем в потоках плотного и ровного зюйд-веста.
Салазкин шагал из больницы пешком и оказался у тополя, когда был уже полдень. Пора идти домой, собирать портфель для школы. Но Салазкин стоял и смотрел на клен. Как он полыхает… Клен полыхал весело, по-боевому, а Кинтель в больнице, несмотря на это, умирал. Салазкин понимал теперь с полной ясностью, что надежды нет. Плакать не хотелось. По крайней мере, не очень. Потому что было сейчас как на войне, а там, говорят, над погибшими не плачут. И Салазкин просто стоял и смотрел на огненный клен. С глубокой и слегка горделивой печалью: «У меня умирает друг…»
Потом он заметил, что один галстук сорвало и отнесло ветром, запутало в прошлогоднем репейнике. Салазкин, царапаясь, достал его. Положил под кленом сумку с халатом, глянул наверх. Он решил забраться к верхушке, чтобы завязать этот галстук выше других.
И полез, пачкая себя сажей обугленных ветвей.
Он остановился лишь тогда, когда ветки стали потрескивать под ним. Привязал галстук за гибкий, казавшийся живым прутик. Алая материя вымпелом рванулась из ладоней.
Салазкин спустился. Постоял, глядя вверх.
«У меня умирает друг…»
Привязав галстук, Салазкин сделал для Кинтеля все что мог… Или мог что-то еще?
Мог. И обязан был! И он решился на то, о чем до сих пор думал отрывочно и несмело.
К счастью, была суббота, для многих выходной день, и она оказалась дома.
Открыла дверь, вздрогнула, отступила, взяв себя тонкими пальцами за подбородок. Может, испугалась перемазанного вида мальчишки?
— Здравствуйте, — сказал Салазкин тихо, но решительно. — Вас зовут Надежда Яковлевна?
— Да… входи.
Он шагнул через порог.
Надежда Яковлевна отступила еще. Спросила то ли со страхом, то ли со скрытой болью:
— Чего ты хочешь, мальчик? Я… слушаю…
Глядя в ее худое, с печальными складками лицо, Салазкин все так же негромко, но твердо проговорил:
— Извините. У вас был сын. Да?
— Да… Да!.. А ты…
— Я его друг.
Надежда Яковлевна села на приступок у зеркала, глянула ищущим, недоверчивым, растерянным взглядом:
— Но… я не помню тебя. Да нет, не может быть. Ты гораздо младше.
— Всего на два года. Это не важно… Сейчас ничего не важно, Надежда Яковлевна. Вы ничего не знаете, а он… сейчас в больнице. В очень плохом состоянии… — Салазкин не посмел сказать «в безнадежном»…
Она прижалась затылком к собственному отражению. Пальцы на подбородке закаменели, брови сошлись.
Салазкин строго сказал:
— Все ему говорили, что вы погибли, но он не верил. И узнал, где вы живете…
Она как-то обмякла, положила руки на колени, нагнулась к Салазкину:
— Я что-то начинаю понимать… Наверно, именно этот мальчик опустил мне в ящик под Новый год открытку, которая на месяц уложила меня в больницу?
— Да… но разве вы…
— Нет… — выдохнула она. — Нет, мальчик, нет… Это просто… такое вот совпадение. У меня был сын, Витенька, двенадцати лет. Он умер три года назад от лейкемии. Не здесь, в другом городе… И я приехала сюда, потому что не могла там одна… И вдруг открытка: «Мама, поздравляю…»
— Это я посоветовал ему, — прошептал Салазкин.
Помолчав и отвернувшись, она спросила:
— Сколько ему лет?
— Тринадцать… завтра было бы…
— Почему… «было бы»?
Салазкин всхлипнул, но не отвел глаз.
— Потому что, наверно… не успеет…
— Так плохо?
Он кивнул, но опять поднял глаза:
— Надежда Яковлевна… Теперь ведь не имеет значения. Говорят, он иногда что-то чувствует сквозь… бессознание. И он поймет, что вы пришли. И будет думать… Хоть на последний час ему радость… Он надеялся целый год…
— Господи… Почему он решил, что я его мама?
— Говорит, похожи… Может, он даже откроет глаза и увидит… — Салазкин отвернулся, заплакал уже открыто.
— Господи… — сказала опять Надежда Яковлевна. И потом еще, с усилием: — Я несколько дней провела в палате, когда умирал Витя. До самого конца… Ты думаешь, я выдержу это еще раз?
Салазкин глянул мокрыми испуганными глазами:
— Извините… Я так не думал… Я об этом вообще не думал. — Потом сказал спокойнее и уже безнадежно: — Дело в том, что я думал только о Дане…
— Его зовут Даней?
— Да…
Они молчали долго. Салазкин хотел уже прошептать: «Извините, я пойду…» Надежда Яковлевна вдруг поднялась. Медленно, будто с тяжелым мешком на плечах.
— Ладно, идем…
— Нет… если так, то, наверно, не надо… — забормотал он.
— Теперь это не тебе решать. И не мне. Наверно, судьба… — Она вдруг стала спокойной, строгой даже: — Пошли… Хотя постой, иди-ка сюда. Где ты так вывозился…
Надежда Яковлевна за плечо ввела Салазкина в ванную. В теплой воде намочила конец махрового полотенца, решительно и умело оттерла Салазкину щеки, ладони, коленки. Щеткой почистила рубашку, без успеха впрочем.
— Идем.
На лестнице она спросила:
— Где больница?
— На Московской, областная…
На улице они не пошли к трамваю. Надежда Яковлевна подошла к обочине, решительно проголосовала первому же «Москвичу». Тот тормознул.
— Нам нужно в больницу, очень срочно. Там мальчик… На Московской.
— Садитесь, — буркнул молодой водитель, мельком глянув на Салазкина.
— Спасибо… Ох, я оставила деньги! Вы подождете минуту?
— Садитесь. Мне все равно в ту сторону…
Помчались. На полпути Надежда Яковлевна вдруг шепотом спросила:
— Мальчик, а меня пустят?
— Я добьюсь, — тихо сказал Салазкин.
Он добился. Его уже знали здесь и недолго сопротивлялись отчаянной просьбе позвать Андрея Львовича. Скоро чернобородый доктор оказался в вестибюле.
— Вот… — сказал Салазкин. — Это его… мама. Она должна…
Андрей Львович посмотрел на мальчишку, на женщину. Почему-то оглянулся на лестницу. И сказал уже ни на кого не глядя, опустив глаза:
— Хорошо, Саня, дай Даниной маме свой халат, так будет быстрее…
Вот и все. Он сделал что мог. Теперь надо было идти домой, потом в школу. Обедать, сидеть на уроках, жить…
Но Салазкин опять пришел к обгорелому клену. Тянуло его сюда, словно за каким-то утешением. За спасением. Но не было теперь ни утешения, ни спасения. Ни надежды. Понимание того, что Кинтель вот-вот умрет, надвинулось беспощадно. Уже без всякой гордой печали, без той значительности, которая была во фразе: «У меня умирает друг».
Салазкин понял, что до сих пор все-таки не верил в это до конца. Пока делали доску для дома и привязывали галстуки, пока он пробивался в больницу, и даже пока разговаривал и ехал с Надеждой Яковлевной — это все еще была какая-то игра. Это отвлекало мысли и силы от того самого страшного, что неизбежно приближалось. А теперь отвлекать было нечему. И страшное, безысходное ощущение потери обрушилось на беззащитного Салазкина со всей своей черной беспощадностью.
Он прижался лбом к обожженному стволу и зашелся в отчаянном плаче. Потому что как он будет на свете, когда Кинтель, Даня, Данилка Рафалов умрет?
…Но Кинтель не умирал.
Мало того, он и не собирался умирать. Тьма и свинцовая тяжесть еще лежали на нем, но не было в них той абсолютности, которая давила прежде.
Он не мог умереть. Иначе в каком одиночестве окажется Регишка!.. И кто будет зажигать фонарик у бронзового Тома Сойера?.. И кто расскажет, что было в спрятанном под медной ручкой письме?
И впереди столько дел! Надо строить шхуну «Тремолино-2». Надо разыскать родственников или друзей семьи Алки Барановой и узнать у них ее заграничный адрес. Надо выучить полный набор сигналов для трубы, чтобы тот, самый первый, самый главный, играть лишь в особо важные моменты… Надо вновь ощутить счастье парусного плавания… И много чего еще надо успеть и сделать…
Чашка весов, качнувшись в сторону жизни, теперь уже не могла остановиться. Потому что тепло этой жизни шло неудержимо от узкой горячей ладони, которая лежала на запястье у Кинтеля. Он знал, чья это ладонь. И она спасала его. И сердце стучало все отчетливее, все ровнее. И шевельнулись ресницы…
ЭПИЛОГ
Тринадцатилетний Генри Линдерс, трубач первой роты ее величества морского десантного полка, был огорчен до крайности. Война не получалась. Она была совсем не такой, какой виделась Генри вначале, когда он, обалдевший от счастья, узнал, что по ходатайству полковника Томсона зачислен в беломорскую экспе-дицию.
Военная экспедиция эта состояла из трех пароходов с четырнадцатью орудиями на каждом, и командовал ею капитан королевского флота Омманей. Он держал свой флаг на пароходе «Бриск».