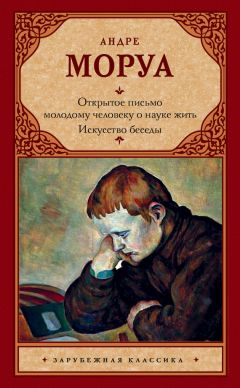Оскар Лутс - Лето
– Ха-а! – улыбается Тоотс. – Семь раз отмерь – один раз отрежь. Знаешь такую поговорку? Кроме того, в любом деле самую большую долю прибыли получают те, кто меньше всего потрудился. Этого, молодой человек, никогда нельзя забывать. И если хочешь знать, дефицит у тебя еще больше – это мне сейчас только в голову пришло.
– Оставь, Тоотс! – с горькой улыбкой говорит Леста. – У меня уже голова кружится.
– Ничего, – отвечает управляющий. – Пусть немного покружится – в другой раз умнее будет. Слушай! Ты вложил в свою книгу триста пятнадцать рублей пятьдесят копеек. Еще хорошо если тебе удастся через год полностью вернуть себе эти деньги. Так ведь? Ну вот, А проценты? Если бы ты кому-нибудь одолжил эту сумму, то через год… подожди-ка… ну да, через год она принесла бы тебе по крайней мере пятнадцать рублей семьдесят семь копеек процентов, а сейчас эта сумма тебе ничего не приносит, только душа из-за нее болит.
– Ну вот, ты еще и душевную боль вздумаешь к убыткам отнести.
– Нет. Боль душевная полагается тебе сверх всего, в назидание, как урок, чтобы в следующий раз не был таким дураком. О боли душевной будешь знать только ты сам да господь бог, а вот эти пятнадцать рублей семьдесят семь копеек все-таки придется причислить к убыткам. Итак всего – двести девяносто шесть рублей двадцать семь копеек. Это, дорогой Леста, и есть твой окончательный дефицит.
– Ну, да чего там, влип, конечно… бросился очертя голову… рублем больше или меньше – не все ли равно, – вздыхает Леста.
– Ну, не беда, – чуть помолчав, снова начинает управляющий. – Теперь мы, по крайней мере, знаем, как велик убыток, а это уже кое-что значит. Запиши себе эту сумму – нам она еще понадобится. Кроме того, хотелось бы мне и самому сходить к этому комиссионеру, может быть, удастся вырвать у него несколько процентов. Не беда, не беда. Время бежит, а счастье не минует. Но вообще-то жаль, что ты не выносишь, когда люди на тебя смотрят и говорят: «Ах, вы и есть тот самый писатель Леста!» Не то ты мог бы сам продавать свои книги и вернул бы все затраты.
– Так оно и есть, – разводит руками Леста, – тут уж ничего не поделаешь. Таким уж, видно, я уродился.
XV
– Не беда, не беда, – снова повторяет управляющий и собирается еще что-то добавить Лесте в утешение, но вдруг начинает прислушиваться. В передней кто-то возится у двери, затем с треском ее захлопывает и отпускает по чьему-то адресу несколько крепких словечек.
– Киппель, – говорит Леста, кивая на дверь.
– А-а! – широко улыбается Тоотс. – Пусть зайдет сюда, давно я его не видел.
– Киппель! – зовет Леста. – Зайдите сюда!
– Jawohl[7], – доносится из передней, затем Киппель, что-то еще пробормотав, резким движением распахивает дверь в квартиру Тали.
– Ага! – восклицает он еще с порога. – Господин опман тут! Замечательно! Сегодня погода для рыбалки – как по заказу, таких дней за все лето только два-три насчитаешь. Господин Тоотс пришел как раз вовремя. Здравствуйте, здравствуйте! Ну что вы скажете! Эти проклятые жулики опять вломились в мою комнату, изорвали сети и все перевернули вверх дном. Ух, дьяволы! Попадись мне кто-нибудь из них, я б его взял за глотку! Это же открытый разбой и грабеж! Черт побери, тут убытков не оберешься. Нет, придется сегодня же мережи и сети сюда перетащить, к Тали, не то они, чертово отродье, все дотла растащат.
– Так, так, – замечает Леста. – Вернется Тали и найдет у себя книжную лавку и склад рыболовных снастей. Несите и свои ящики сюда. А Тали пускай перебирается в вигвам и открывает какую-нибудь другую торговлю, например, продажу певчих птиц.
– Ах да! – вдруг вспоминает Киппель. – Правильно! Книги! Господин опман, пожалуй, еще и не знает, что у нас книга уже продается. О-о, это Auflage[8] мы безусловно распродадим за два месяца. Но господин писатель чуточку нетерпелив и впадает в уныние. Человек должен иметь хоть маленький деловой опыт, тогда любая коммерция пойдет как по маслу. Покойный Носов…
– Оставьте вы Носова, – перебивает его Леста, – скажите лучше, сколько штук вам удалось продать, с вашим деловым опытом.
– Много! Все двадцать экземпляров, которые я вчера отсюда взял, проданы! Вот деньги: четыре рубля восемьдесят копеек. Завтра возьму порцию побольше.
– Четыре рубля восемьдесят копеек за двадцать экземпляров? – удивляется Леста, пересчитывая деньги. – Почему так мало?
– Как это – мало? А шестьдесят процентов перекупщикам? Это же надо вычесть из брутто-цены.
– Шестьдесят процентов! – стонет Леста. – Час от часу не легче! Почему не все семьдесят?.. восемьдесят, девяносто, сто… сто пять процентов? Вы старый коммерсант, слышали вы когда-нибудь, чтобы за продажу какого-нибудь товара платили шестьдесят процентов? Разве ваш Носов, которым вы мне тычете в нос по шестьдесят раз на день, разве этот самый Носов платил перекупщикам шестьдесят процентов? Крест святой! Помоги мне хоть ты, Тоотс, если хоть капельку меня жалеешь! Мое издательское дело лопнуло, я больше чем банкрот и у меня сейчас такое чувство, будто некая невидимая сила стаскивает с меня последние брюки. Скоро мне придется обернуть ноги газетной бумагой, повязать чресла лохмотьем или же Киппелевой сетью и тогда… тогда опять подойдет ко мне прохожий и с хитрой усмешкой скажет: «Ах, так это вы и есть тот самый издатель Леста? Хм-хэ-хэ!..» – "Да, я и есть знаменитый писатель Леста и еще более знаменитый издатель Леста, все мировое пространство заполнено моими книгами и моими лавками. Даже в преисподней у меня имеется отделение, или филиал, – там я доверил ведение моих дел известному коммерсанту Носову, которому скоро явится на помощь еще более известный коммерсант Киппель. На небесах мои книги распространяет Юхан Лийв, так как он, при жизни вынужденный довольствоваться малым, теперь поставлен мною над многими… Ох-хо-хо! Будь оно трижды проклято, это издательское дело, эта торговля, все эти комиссионные операции! Тали был тысячу раз прав, когда говорил: «Пиши и читай сам. Почему тебе хочется, чтобы все читали твои стихи». Единственную подлинную радость доставляли мне лишь те минуты, когда я писал, а все, что было потом, – это от лукавого!
Леста бросается ничком на постель Тали и прячет голову в подушки.
– Спокойно, спокойно! – сочувственно улыбается Тоотс. – Дело обстоит вовсе не так скверно.
– Но позвольте, господин писатель, – оправдывается Киппель, – как вы можете сравнивать себя с Носовым? Носов – это была старая, известная фирма, ему уже не было надобности платить шестьдесят процентов; хорошо, если давал тридцать, у него и так было достаточно покупателей. Вы же, насколько мне известно, только начинающий, поэтому вам на первых порах необходимо привлечь клиентов большими процентами; вам нужно, так сказать, привадить публику, пусть даже это сначала принесет убыток. Позже, когда ваша фирма станет популярной, можете натянуть вожжи потуже и платить, по мне, хоть и двадцать пять процентов. Да, да, безусловно. Начинающий делец никогда не должен гнаться за прибылью. Вы, господин писатель, еще молоды, у вас еще слишком мало коммерческого опыта. Как бы то ни было, первый задаток у вас в руках. Еще два-три раза бросите публике такую приманку и увидите, как начнет клевать! Осенью дадим второе Auflage и тогда цена книги будет уже не шестьдесят копеек, а рубль шестьдесят. Ну, а теперь, когда начало положено, да и господин опман как раз тут, не плохо бы нам вместе распить «три звездочки» – за старую дружбу и процветание молодой фирмы, а? Как ваше мнение, друзья?
– Там на столе четыре рубля восемьдесят копеек, – откликается с кровати Леста.
– Нет, ни за что! – твердо заявляет Тоотс. – Это твоя первая выручка. Ее нельзя тратить. Это счастливые деньги, они потянут за собой другие – их нельзя трогать. На этот раз деньги даю я. Но принесите, господин Киппель, и чего-нибудь закусить, у меня сегодня маковой росинки во рту не было.
– Безусловно! Не беспокойтесь, господин опман, уж я-то знаю, что принести. Сидите себе тут спокойненько и утешайте господина писателя. Разъясните ему, что настоящий коммерсант никогда не должен падать духом, вам, как старому школьному товарищу, он, может быть, поверит больше, чем мне, хоть я и был двенадцать лет правой рукой у покойного Носова. Так-то! До свидания! Через четверть часа вернусь.
С этими словами Киппель хватает деньги и быстро исчезает. В комнате воцаряется тишина. Леста вздыхает. Залетевшая в дом дикая пчела с жужжанием бьется о стекло – ищет пути на волю. Во дворе плачет маленький ребенок. Кто-то качает воду из колодца и пытается утешить малютку: «Не плачь ты, не плачь, мама скоро придет. Мама пошла за булками».
Тоотс выпускает на свободу дикую пчелу, выглядывает через окно во двор, затем обращается к лежащему на кровати Лесте:
– Вставай, вставай Леста! Не будь чудаком! Я недавно тоже и кряхтел, и стонал, и проклинал Заболотье за то, что такое оно маленькое и жалкое. А теперь вот взялись мы с Либле, выкорчевали пни, выжгли подсеку и, словно играючи, заполучили еще два-три пурных места пашни. К осени дела пойдут еще лучше. Если удастся еще осушить болото, так, чтобы на нем хлеб рос, то Заболотье станет ничуть не меньше и не хуже других хуторов; а если еще поле от камней очистим да хорошо унавозим, так это самое Заболотье, на которое раньше смотрели свысока, еще и других за пояс заткнет. Тогда надо будет ему и название новое дать: не Заболотье, а Заполье. Вот какие у меня планы. Но если б я, вместо того, чтобы дело делать, только кряхтел да стонал, – как ты думаешь, Леста, добился бы я чего-нибудь? Нет, нет, вставай! Будь мужчиной, не будь бабой! Вставай, спрячь свои четыре рубля восемьдесят копеек и жди новой прибыли. Спасай что еще можно спасти. Некрасиво, когда человек все готов бросить из-за какой-то мелкой неудачи… Тебе же придется еще издавать книги, и это будет очень трудно, раз ты сейчас так распускаешься. Имей в виду, человек должен быть гибким, как лоза, или же как паунвереский портной Кийр, Жорж Аадниэль. Я потом тебе расскажу, что этот Аадниэльчик в Паунвере вытворяет. О-о, это забавная, но и поучительная история, в особенности для тебя, Леста. У Жоржика иногда вместо сердца остается одно лишь пепелище, и все-таки он снова выпрямляется и упорно гнет свою линию, как и подобает мужчине. Не нравятся мне люди, которые поступают, как та самая обезьяна с горохом, – знаешь эту сказку? Обезьяна где-то раздобыла пригоршню гороха, идет с ним домой, хвост колесом, а сама думает: «Вот я его дома пощелкаю». Вдруг одна горошинка – шлеп! – и упала наземь. Обезьяна давай ее ловить, а сама двадцать штук уронила. Обозлилась обезьяна и как швырнет весь горох на все четыре стороны! Вот, дорогой однокашник, как поступают обезьяны и глупые люди…