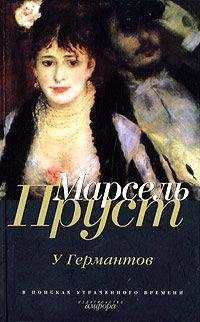Марсель Пруст - По направлению к Свану
Свану не мешало бы, однако, вспомнить, что среди старых друзей его родителей были люди такие же простые, как и Вердюрены, что друзья его юности тоже были помешаны на искусстве, что у некоторых его знакомых тоже было большое сердце, но что с тех пор, как он стал поборником простоты, искусств и великодушия, он с ними порвал. Все дело в том, что эти люди не были знакомы с Одеттой, а если бы даже и были знакомы, то не подумали бы содействовать ее сближению со Сваном.
Таким образом, во всем окружении Вердюренов, конечно, не нашлось бы ни одного верного, который любил бы их, — или думал бы, что любит, — так же, как Сван. А между тем, когда Вердюрен заявил, что Сван ему не нравится, он выразил не только свое собственное отношение к Свану, но и угадал, как относится к Свану г-жа Вердюрен. Бесспорно, любовь Свана к Одетте носила на себе печать столь резкого своеобразия, что он не считал нужным ежедневно посвящать г-жу Вердюрен во все подробности их романа; бесспорно, та умеренность, с какою он пользовался гостеприимством Вердюренов, часто не приходя к ним обедать, причем истинная причина его отсутствия оставалась им неизвестной, и они были уверены, что он изменил им ради скучных; бесспорно, его блестящее положение в обществе, о котором они хоть и не сразу, а все-таки дознались, несмотря на принятые им меры предосторожности, — все это настраивало их против него. И тем не менее причина лежала глубже. Дело в том, что они очень скоро почувствовали в нем заветный, недоступный уголок, где он продолжал верить в то, что принцесса Саганская вовсе не посмешище и что остроты Котара нисколько не забавны, и хотя он всегда был ровен в своей любезности к ним и никогда не восставал против их догматов, навязать, ему свои догматы, всецело обратить его в свою веру они были бессильны — с таким упорством им прежде сталкиваться не приходилось. Они простили бы ему встречи со скучными (которых он, кстати сказать, в глубине души ставил бесконечно ниже Вердюренов и всего их «ядрышка»), если б он открыто от них отступился в присутствии верных. Но Вердюренам стало ясно, что они никогда не вырвут у него отречения.
До чего непохож был на Свана «новенький», которого Одетта попросила разрешения привести к Вердюренам, хотя сама видела его всего несколько раз, и на которого Вердюрены уже возлагали большие надежды, — граф де Форшвиль! (К вящему удивлению верных, он оказался шурином Саньета: старый архивариус держался очень скромно, и верные были убеждены, что он ниже их по положению; им и в голову не могло прийти, что Саньет человек состоятельный и даже довольно знатного рода.) Разумеется, Форшвиль, в отличие от Свана, был завзятым снобом; разумеется, он, в противоположность Свану, ни за что на свете не поставил бы кружок Вердюренов выше всех остальных кружков. Но он был лишен врожденного такта, не позволявшего Свану присоединяться к явно несправедливым нападкам г-жи Вердюрен на общих знакомых. Что касается претенциозных и пошлых тирад, произносившихся иногда художником, и коммивояжерских острот, на которые отваживался Котар, то Сван, любивший обоих, охотно извинял их, но ему не хватало ни смелости, ни лицемерия рукоплескать им, между тем как интеллектуальный уровень Форшвиля был таков, что тирады художника ошеломляли и восхищали его, хотя смысл их оставался для него темен, и он упивался остроумием доктора. И уже тот обед у Вердюренов, на котором Форшвиль присутствовал впервые, подчеркнул разницу между ним и Сваном, оттенил достоинства Форшвиля и предрешил опалу Свана.
На этом обеде, помимо постоянных гостей, был профессор Сорбоннского университета Бришо, познакомившийся с супругами Вердюренами на водах, и если бы университетские обязанности и ученые труды не отнимали у него так много времени, он с удовольствием бывал бы у них чаще. Его отличали любознательность и интерес к жизни, которые, в сочетании с известной долей скептицизма по отношению к своим занятиям, создают некоторым интеллигентным людям самых разных профессий, — врачам, не верящим в медицину, преподавателям, не верящим в пользу латыни, — репутацию людей широких, ярких, даже необыкновенных. Говоря у г-жи Вердюрен о философии или об истории, он обращался за примерами к самым последним событиям, прежде всего потому, что, по его мнению, история и философия — это лишь подготовка к жизни, а в «кланчике», как он уверял себя, осуществляется на деле то, что ему до сих пор было известно только из книг, и еще, быть может, потому, что бессознательно сохранив некогда привитое ему почтение к некоторым предметам, он воображал, будто сбрасывает с себя университетскую мантию, допуская по отношению к этим предметам известную вольность, которая, впрочем, оттого-то и казалась ему вольностью, что он и не думал снимать университетскую мантию.
В начале обеда, когда Форшвиль, сидевший справа от г-жи Вердюрен, которая ради «новенького» изрядно потратилась на туалет, заметил: «Как оригинально сшито это платье цвета бланш!» — доктор, смотревший на графа не отрываясь: такое любопытство вызывала у него титулованная знать, всячески старавшийся привлечь к себе его внимание и войти с ним в более тесный контакт, поймал на лету слово «бланш» и, уткнувшись в тарелку, переспросил: «Какая бланш? Бланш де Кастий[133]?» — а затем, все так же не поднимая головы, украдкой повел неуверенно улыбающимся взглядом. Тягостное и напрасное усилие Свана скривить губы в улыбку свидетельствовало о том, что каламбур, по его мнению, идиотский, а Форшвиль, напротив, показал одновременно, что он оценил его тонкость и что он умеет вести себя в обществе, ибо удерживает в определенных рамках веселое свое оживление, искренность которого очаровала г-жу Вердюрен.
— Как вам нравится этот ученый? — спросила она Форшвиля. — С ним двух минут нельзя говорить серьезно. Вы и в больнице так разговариваете? — обратилась она к доктору. — Я вижу, больные там не очень скучают. Не попроситься ли и мне туда?
— Если не ошибаюсь, доктор заговорил об этой, извините за выражение, старой ведьме Бланш де Кастий. Правда, сударыня? — спросил Бришо г-жу Вердюрен, а г-жа Вердюрен зажмурилась, затряслась от хохота, и из-под ладоней, на которые она уронила голову, у нее по временам вырывались придушенные взвизги. — Упаси Бог, я вовсе не намерен задевать за живое людей, настроенных благоговейно, если такие, sub rosa[134], есть среди нас… Да я и не собираюсь отрицать, что наша достохвальная афинская республика — сверхафинская! — чтила бы в этой капетингской обскурантке первого префекта полиции твердой руки. Да, да, дорогой хозяин, это ясно, это ясно, — отчеканивая каждое слово, зычным голосом продолжал он, не дав раскрыть рот Вердюрену. — «Летопись монастыря Сен-Дени"[135], достоверность которой непререкаема, не оставляет на этот счет никаких сомнений. Невозможно себе представить лучшей покровительницы отошедшего от религии пролетариата, чем эта мать святого, которому она, однако, в печенки въелась, как утверждают Сюжер[136] и святой Бернар[137], — она ведь всем сестрам раздавала по серьгам.
— Кто этот господин? — спросил г-жу Вердюрен Форшвиль. — По-видимому, он человек широкообразованный.
— Как! Вы не знаете знаменитого Бришо? Он пользуется известностью во всей Европе.
— Ах, это Брешо! — не расслышав, воскликнул Форшвиль. — Вы мне потом расскажите о нем поподробнее, — пяля глаза на знаменитость, продолжал он. — Всегда интересно обедать с человеком, на которого обращено всеобщее внимание. Какое, однако, здесь изысканное общество! У вас не соскучишься.
— О, вы знаете, самое главное — это то, что все мы тут нараспашку, — скромно заметила г-жа Вердюрен. — Все говорят откровенно, и каждое слово — на вес золота. Сегодня Бришо как раз не в ударе, но однажды, вы знаете, он был ослепителен, хотелось упасть перед ним на колени, но это он такой у меня, а у других ничего особенного, куда девается все его остроумие, из него надо тянуть слова клещами, с ним просто скучно.
— Любопытно! — в изумлении воскликнул Форшвиль. В том кружке, где проводил время молодой Сван, остроумие Бришо было бы расценено как чистопробная глупость, хотя и уживающаяся с несомненными способностями. А большим от природы и получившим мощное развитие способностям профессора наверняка позавидовали бы многие люди из высшего общества, которым Сван в остроумии не отказывал. Но эти люди из высшего общества в конце концов сумели так укрепить в Сване свои пристрастия и свою неприязнь, — по крайней мере, во всем, что касается светской жизни и даже тех ее надстроек, которые скорей относятся к области духа, как, например, искусства вести беседу, — что шутки Бришо казались Свану тяжеловесными, пошлыми и сальными до тошноты. Кроме того, Сван привык к хорошим манерам, и его коробил нарочито грубый тон матерого вояки, который усвоил себе в обращении со всеми этот профессор-солдафон. Наконец, в тот вечер Сван, быть может, потому утратил обычную свою снисходительность, что г-жа Вердюрен была подчеркнуто любезна с Форшвилем, которого Одетте почему-то вздумалось ввести в ее дом. Чувствуя себя неловко перед Сваном, Одетта спросила его по приезде: