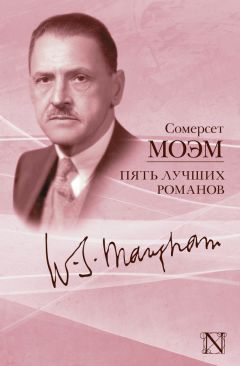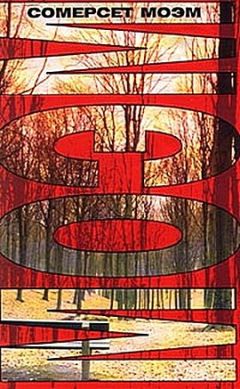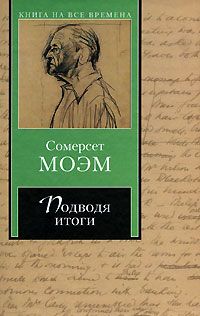Сомерсет Моэм - Острие бритвы
— Он говорил по-английски? — спросил я.
— Нет, но мне, вы знаете, языки даются легко, и на юге я уже успел нахвататься тамильского, так что много понимал и сам мог объясниться. Наконец он заговорил:
«Зачем ты сюда пришел?»
Я стал рассказывать, как попал в Индию и чем занимался три года, как ходил от одного святого человека к другому, будучи наслышан о их мудрости и праведности, и ни один не дал мне того, что я искал. Он перебил меня:
«Это я все знаю. Говорить об этом лишнее. Зачем ты пришел ко мне?»
«Чтобы ты стал моим гуру» — ответил я.
«Единственный гуру — это Брахман», — сказал он.
Он все смотрел на меня до странности пристально, а потом тело его внезапно застыло, глаза словно обратились внутрь, и я увидел, что он впал в транс, который индусы называют «самадхи», то есть сосредоточением, и во время которого, по их верованиям, антитеза субъекта и объекта уничтожается и человек становится Абсолютным Знанием. Я сидел перед ним на полу скрестив ноги, и сердце у меня отчаянно билось. Сколько времени прошло, не знаю, потом он глубоко вздохнул, и я понял, что он опять в нормальном сознании. Он окинул меня взглядом, исполненным бесконечной доброты.
«Оставайся, — сказал он. — Тебе покажут, где можно спать».
Меня поселили в хижине, где Шри Ганеша жил, когда только спустился в долину. Здание, где он теперь проводил и дни, и ночи, построили позже, когда вокруг него собрались ученики и все больше народу стало приходить к нему на поклон. Чтобы не выделяться, я перешел на удобную индийскую одежду и так загорел, что, если не знать, кто я, меня вполне можно было принять за местного жителя. Я много читал. Размышлял. Слушал Шри Ганешу, когда он был в настроении говорить; говорил он не много, но всегда был готов отвечать на вопросы, и слова его будили много мыслей и чувств. Как музыка. Сам он в молодости упражнялся в очень суровом аскетизме, но своих учеников к этому не понуждал. Он стремился отлучить их от рабства эгоизма и плотских страстей, толковал им, что путь к освобождению лежит через спокойствие, воздержание, самоотречение, покорность, через твердость духа и жажду свободы. Люди приходили к нему из ближайшего города за три-четыре мили — там был знаменитый храм, куда раз в год стекались на праздник несметные толпы; приходили из Тривандрума и других отдаленных мест, чтобы поведать ему свои горести, спросить его совета, послушать его наставления; и все уходили утешенные, с новыми силами и в мире с самими собой. Суть его учения была очень проста. Он учил, что все мы лучше и умнее, чем нам кажется, и что мудрость ведет к свободе. Он учил, что самое важное для спасения души — не удалиться от мира, а всего лишь отказаться от себя. Он учил, что работа, проделанная бескорыстно, очищает душу и что обязанности — это предоставленная человеку возможность подавить свое «я» и слиться воедино с вселенским «я». Удивительно было не столько его учение, сколько он сам — его милосердие, величие его души, его святость. Самая близость его была благом. Около него я был очень счастлив. Я чувствовал, что наконец-то нашел то, что искал. Недели, месяцы летели с неимоверной быстротой. Я решил, что побуду там либо до его смерти — а он говорил, что не намерен слишком долго обитать в своем бренном теле, — либо до тех пор, пока мне не будет дано озарение — то состояние, когда ты наконец разорвал путы невежества и познал с неоспоримой уверенностью, что ты и Абсолют — одно.
— А тогда что?
— Тогда, очевидно, нет больше ничего. Земной путь души окончен, и она больше не вернется.
— И Шри Ганеша умер? — спросил я.
— Да нет, не слышал.
Не успел он это сказать, как понял смысл моего вопроса и смущенно усмехнулся. Чуть помедлив, он продолжал, но так, что я сначала подумал, что он хочет уйти от второго вопроса, явно вертевшегося у меня на языке и вполне естественного, — было ли ему дано озарение.
— Я не все время проводил в ашраме. Мне посчастливилось познакомиться с одним местным лесничим, который жил на окраине деревни в предгорьях. Он был ревностным почитателем Шри Ганеши и, когда выдавалось свободное время, проводил у нас по два, по три дня. Приятный был человек, мы с ним много беседовали. Он был рад случаю попрактиковаться в английском. Через некоторое время он сказал мне, что у лесничества есть домик в горах и, если мне когда-нибудь захочется там побывать и пожить в одиночестве, он даст мне ключ. И я стал туда удаляться время от времени. Путь туда занимал два дня — сначала автобусом, до той деревни, где постоянно жил лесничий, потом пешком, но проделать его стоило — такое там было великолепие и тишина. Я забирал с собой рюкзак с вещами, нанимал носильщика, чтобы тащил припасы, и жил там, пока они не иссякнут. Домик был просто бревенчатая хижина с пристройкой, где стряпать, а внутри была походная койка, на которую каждый мог постелить свою спальную циновку, стол и два стула. Там, на высоте, никогда не было жарко, а по ночам бывало даже приятно развести костер. У меня сердце замирало от счастья при мысли, что ближе чем за двадцать миль от меня нет ни одной живой души. Ночью я нередко слышал рев тигра или страшный шум и треск, когда через джунгли продирались слоны. Я надолго уходил гулять. Там было одно место, где я особенно любил посидеть, потому что оттуда открывался широкий вид на горы, а внизу было озеро, к которому в сумерках сходились на водопой олени, кабаны, бизоны, слоны и леопарды.
Когда я прожил в ашраме уже два года, я отправился в мое горное убежище по причине, которая покажется вам смешной. Мне захотелось провести там мой день рождения. Пришел я накануне. А наутро проснулся еще затемно и подумал, что хорошо бы с моего любимого места посмотреть восход солнца. Дорогу туда я мог бы найти с закрытыми глазами. Я пришел, сел под деревом и стал ждать. Еще не рассвело, но звезды побледнели, день был близок. У меня возникло странное чувство, что вот-вот что-то должно случиться. Постепенно, почти незаметно для глаза, свет стал просачиваться сквозь темноту — медленно, как таинственное существо, скользящее меж деревьев. Сердце у меня забилось, словно в предчувствии опасности. Взошло солнце.
Ларри помолчал, виновато улыбаясь.
— Не умею я описывать, у меня нет слов, чтобы создать картину; я не в силах вам рассказать так, чтобы вы сами увидели, какое зрелище мне открылось, когда день воссиял во всем своем величии. Горы, поросшие лесом, за верхушки деревьев еще цепляются клочья тумана, а далеко внизу — бездонное озеро. Через расщелину в горах на озеро упал солнечный луч, и оно заблестело, как вороненая сталь. Красота мира захватила меня. Никогда еще я не испытывал такого подъема, такой нездешней радости. У меня появилось странное ощущение, точно дрожь, начавшись в ногах, пробежала к голове, такое чувство, будто я вдруг освободился от своего тела, а душа причастилась такой красоте, о какой я не мог и помыслить. Будто я обрел какое-то сверхчеловеческое знание, и все, что казалось запутанным, стало просто, все непонятное объяснилось. Это было такое счастье, что оно причиняло боль, и я хотел избавиться от этой боли, потому что чувствовал — если она продлится еще хоть минуту, я умру; и вместе с тем такое блаженство, что я был готов умереть, лишь бы оно длилось. Как бы мне вам объяснить? Этого не опишешь словами. Когда я пришел в себя, я был в полном изнеможении и весь дрожал. Я уснул.
Проснулся я в полдень. Я пошел в свою хижину, и на сердце у меня было так легко, что казалось, я не иду, а парю над землей. Я приготовил себе поесть, голоден был как волк, и закурил трубку.
Ларри и сейчас набил трубку и закурил.
— Мне страшно было подумать, что это было прозрение и что я, Ларри Даррел из Марвина, штат Иллинойс, удостоился его, когда другие, которые ради него годами занимались умерщвлением плоти и лишали себя всех земных радостей, все еще ждут.
— А может быть, это было всего лишь гипнотическое состояние, вызванное вашим настроением, одиночеством, таинственностью рассветного часа и вороненой сталью вашего озера? Чем вы можете доказать, что это было именно прозрение?
— Только тем, что сам я в этом ни минуты не сомневаюсь. Ведь переживание это было того же порядка, как то, что знавали мистики во всех концах света, во все века. Брахманы в Индии, суфии в Персии, католики в Испании, протестанты в Новой Англии. И в той мере, в какой можно описать то, что не поддается описанию, они и описывали его примерно в тех же словах. Отрицать тот факт, что такое переживание бывает, невозможно; трудность в том, чтобы его объяснить. Слился я на мгновение в одно с Абсолютом, или то прорвалось наружу подсознание, или сказалось сродство с духом вселенной, которое во всех нас скрыто, право, не знаю.
Ларри передохнул и поглядел на меня не без лукавства.
— Между прочим, — сказал он, — вы можете коснуться мизинцем большого пальца?
— Конечно, — сказал я и тут же это проделал.
— А вам известно, что на это способен только человек и приматы? Рука — поразительное орудие именно потому, что большой палец противостоит другим пальцам. Так нельзя ли предположить, что этот противостоящий большой палец, конечно в каком-то рудиментарном виде, сначала развился только у отдельных особей далекого предка человека и гориллы, а общим для него признаком стал лишь через несчетное число поколений? И точно так же, что если единение с высшей Реальностью, которое пережило столько разных людей, указывает на появление у человека некоего шестого чувства, то это чувство в очень-очень далеком будущем станет свойственно всем людям и они смогут воспринимать Абсолют так же непосредственно, как мы сейчас воспринимаем чувственный мир?