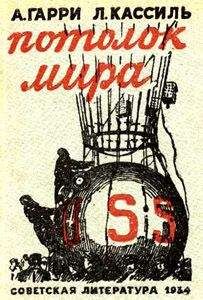Камиль Лемонье - Конец буржуа
— Даниэль держится того же самого мнения, что и мы.
Девушку остановили дочери Акара-старшего. Вслед за ними появился и сам Акар; он поздоровался с Пьебефом и Жаном-Элуа. Он тоже не скрывал своего негодования и, поводя огромным носом, во всеуслышание заявлял, что жалеет о том, что привез сюда дочерей. Эдоксу шутки ради хотелось пройти с ними еще раз по залу, но пора уже было ехать в палату.
— Пожалуйста, не стесняйтесь, — сказал Акар. — Только оставьте нам барышню… Мы приехали в ландо. Позвольте нам отвезти ее домой.
Даниэль согласилась, хотя она терпеть не могла дочерей Акара, находя, что они вульгарны и плохо одеваются. Эдокс направился к выходу. На лестничной площадке его догнал Пьебеф. Улыбаясь, он процедил сквозь зубы:
— Ну, дело сделано… Эпидемия началась. Теперь я не сомневаюсь, что экспроприация состоится… Мрут по десятку в день.
— Вот как!
— Да. Замечательная штука, дорогой. Скажи только, могу я на тебя рассчитывать, если будут какие-нибудь осложнения?
Эдокс обещал ему свою помощь. Он только поставил одно условие: пусть Пьебефы купят еще столько же акций их общества.
— Согласен, — сказал Пьебеф. — Беру пятьсот сразу.
XXXII
Эпидемия, которую столько времени ждали, наконец разразилась, и планы Пьебефов стали осуществляться. Словно разбойники, залегшие в своем логове, они подстерегали добычу. Теперь они увидели, что надежды их сбываются. Отвратительная клоака, возникшая на месте старого кладбища, где все до сих пор еще гнило и разлагалось, словно извергало теперь из себя скопившийся там за долгие годы трупный яд, отравляя миазмами все живое. Облачное, дождливое лето, теплая сырая погода пробудили смрадные испарения этой земли и распространили заразу, заставив обитателей домов вспоминать о лежащих под полом мертвецах, тела которых еще окончательно не истлели. По всему кварталу разносился тиф, беспощадно опустошая дома, прорубая темные просеки в этом выросшем на перегное, густом лесу, в этой страшной чаще человеческих тел. Каждое утро вереница санитаров уносила в лазарет людей с почерневшими лицами, каждое утро похоронные дроги торопливо увозили заколоченные гробы к безвестным могилам. Муниципалитет, пробудившись от спячки, постановил в целях охраны общественного здоровья немедленно уничтожить эту клоаку, возместив владельцам зданий их стоимость. Декрет этот вызвал огромную радость в семье Пьебефов.
— Наше счастье было бы еще полнее, если бы у нас был ребенок, который мог бы воспользоваться всем этим богатством, — сказал Пьебеф-младший жене. И в порыве нежности и щемящей тоски, которую вызывала в нем их бездетность, он крепко поцеловал ее, как бы скрепляя этим поцелуем свое обещание:
— Провалиться мне на этом месте, но ребенок у тебя будет! Клянусь тебе.
До сих пор они еще лицемерили, стараясь делать вид, что соболезнуют страдальцам.
Едва только началась эпидемия, как Пьебеф-старший, предчувствуя, что она повлечет за собой огромную смертность, вошел в соглашение с похоронным бюро, которое взялось поставлять ему гробы сотнями по сходной цене. Таким образом, он порядочно нажился и на этом заказе, приобретая по дешевке деревянные ящики, в которых предстояло истлевать мертвецам. Расчетливость Пьебефа-старшего дошла до того, что он даже потребовал, чтобы излишек гробов бюро с него списало.
Однако от всех их благотворительных намерений не осталось и следа, когда наступило время решать вопрос о размерах компенсации. Пьебефы испугались, что могут на этом деле что-то потерять, и хищнические инстинкты собственников распоясались со всею силой. Они стали спорить о сумме, настаивать на своих правах и в конце концов путем интриг добились самой высокой цифры, которая составила целое состояние. В дело вмешались также Акары и Рабаттю. Этим отъявленным мошенникам удалось еще раз обмануть муниципалитет. Но неожиданно пришло возмездие, и попранные человеческие законы начали мстить за себя. У Рабаттю, который был инициатором этой чудовищной затеи, умер сын. Мальчик погиб от тифа — от той самой эпидемии, результаты которой должны были принести его отцу новые миллионы. Но Рабаттю даже и теперь, когда он носил траур по сыну, продолжал оставаться душою триумвирата. Он настолько очерствел, что ему и в голову не приходило, что его собственный ребенок не случайно умер от той самой болезни, распространению которой он всеми силами способствовал. Может быть, впрочем, он был настолько уже низок, что в его глазах полученная им огромная прибыль сторицей вознаграждала его за смерть сына.
Рассанфоссы и Кадраны, разбогатевшие на удаче, выпавшей на долю их родича, были точно так же ослеплены. Казалось, что эти люди, в честности которых никто никогда не сомневался, утратили вдруг всякую мораль. Г-жа Кадран-мать ограничивалась тем, что заказывала мессы по жертвам ненасытной алчности своего зятя. Сибилла, жена Пьебефа-младшего, полагала, что, для того чтобы жить в мире с господом богом, достаточно раздавать осиротевшим семьям какие-то жалкие крохи от нажитого ими миллиона. Разбойническая хватка капитала, высшая несправедливость кастовой розни еще раз проявилась в действиях этих людей, в обыденной жизни как будто бы и вполне порядочных, но которым забота о собственном благополучии закрыла на все глаза и которые, в силу ограниченности, присущей всякому буржуа, позабыли о том, что на свете существует ответственность за поступки.
Рука правосудия, поразившая Пьебефов, проникла и в дом Кадранов. Апоплексический удар сразил огромного Антонена, когда он ужинал в обществе проституток. Его ненасытная утроба в последний раз послужила тому делу, которому он посвятил свою жизнь, — чудовищному обжорству, превращавшему его организм в какую-то мельницу с жерновами и зубьями, способную перемолоть состояние всей семьи, и сделавшему его огромный круглый живот эмблемою всего царства Кадранов. Нажравшись как скотина, ом вдруг всей тяжестью своего тела рухнул на Ренье, и руки его с растопыренными пальцами стали судорожно хватать воздух. Только через час удалось вызвать у него рвоту, и тогда эта толстая бочка начала извергать из себя целые потоки блевотины. За этим последовал второй удар, но уже более слабый. Врачи, помимо всех прочих недугов, нашли у него жировое перерождение сердца. У него отнялись руки и ноги, он уже ничего не соображал, и в солнечные дни можно было видеть, как по саду Кадранов слуга катает в кресле его огромную, расплывшуюся тушу.
В их семье больше не осталось мужчин. Злой рок, опустошивший колыбели в доме Пьебефов, отнимал у них и этого разжиревшего увальня, который погибал теперь от общего удела их семьи — пресыщения. Оставались одни только дочери. Кадран-отец тяжело переживал свое горе, нимало, однако, не задумываясь над тем, какова та сила, которая за все ему мстит. Что же касается г-жи Кадран, то она по обыкновению снова обратилась за помощью к богу — стала чаще посещать церковь, дала обет заказать резной деревянный алтарь для девы Марии, если только ее детище вернется к жизни.
— Вот и еще один, — сказал Ренье Эдоксу, встретившись с ним однажды утром во время прогулки верхом. В голосе его звучала едкая ирония, с которой он никогда не расставался, как и со своим горбом, источником всей его злобы.
— Он превратился в клей. За свою жизнь он сожрал больше, чем все его предки, — тем ведь приходилось голодать… И вот теперь он должен будет расстаться со всеми миллионами, нажитыми на «Горемычной». Потом придет черед другого, твой или мой, и так будет до тех пор, пока от всех Рассанфоссов останется только кучка гнили, на которой не расцвести даже той розе, которую вы, милая кузиночка, прикололи к корсажу.
Даниэль, совершавшая этим утром со своим отчимом верховую прогулку, отцепила розу и, улыбаясь, бросила ее Ренье. Когда через минуту они удалились, Ренье повернулся в седле и, глядя, как они ритмично раскачиваются в такт движению лошадей, громко расхохотался среди окружавшей его тишины.
— Держу пари на две тысячи франков против всех папашиных миллионов, что сей пройдоха собирается теперь бросить в юную плоть семя кровосмесительного адюльтера. Наш бедный Мозенгейм найдет почву уже взрыхленной.
Один только Жан-Оноре стал открытым противником преступного замысла Пьебефов. Этот честный человек, которому передались лучшие черты его предков и который унаследовал неподкупную прямоту старухи матери, остался незапятнанным среди всей этой грязи. Он стал даже резко осуждать старшего брата за то, что тот связался с такими мошенниками. Жан-Элуа начал оправдываться: ничего не поделаешь, дела есть дела; Пьебеф только воспользовался стечением обстоятельств, которые так или иначе должны были привести к катастрофе. В этом следует обвинять не их, а городские власти, затянувшие экспроприацию этих домов.
Банкротство, которое теперь грозило делу колонизации, мало-помалу стало подтачивать нравственные устои Жана-Элуа, и он становился все менее разборчивым в отношении средств, которыми предстояло возместить понесенные им утраты. Ему пришлось признать, что предприятие оказалось ненадежным, что расчеты, на которых оно было построено, не оправдались. Жан-Кретьен I был человеком, твердо верившим в провидение. Убедившись, что земля сопротивляется, он бы только удвоил свои усилия. А у его дряблых потомков уже не было этой веры — они стали сомневаться в начатом ими деле. Напрасно правительство строило все новые школьные здания, одно лучше другого, — они пустовали, так же как пустовали и сами земли. Нажились на этом только Рабаттю и его подрядчики. Целые поселки с отличными домами, в которых никто не захотел жить, превратились в развалины. После первоначальных, довольно сомни* тельных успехов наступил самый настоящий крах. Миллионы франков потонули в бесплодных песках, а впереди ожидались нескончаемые судебные процессы и громкое дело о неслыханном мошенничестве, которое должно было навсегда запятнать доброе имя Рассанфоссов.