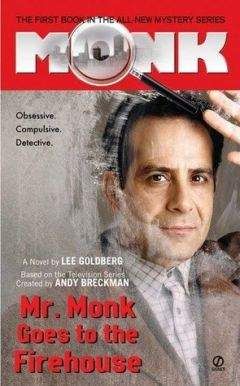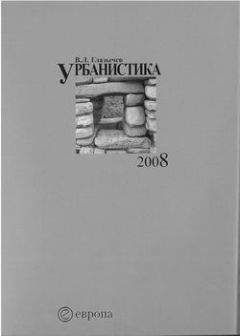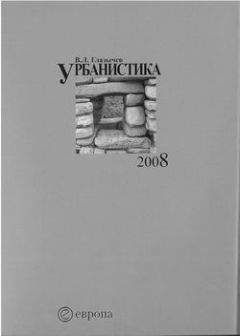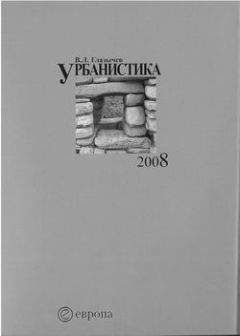Василий Слепцов - Письма из Осташково
Когда мы пришли в церковь, обедня уже началась. Народу было много; но публика рассортирована: почище впереди, посерее сзади, мужчины направо, женщины налево; певчие на обоих клиросах4, и голоса очень сильные, особенно баса, о чем свидетельствуют отчасти и здоровенные шеи кузнецов с подбритыми затылками, стоящих на клиросе. Впрочем, пение бестолковое: всё по нотам, всё по нотам, фортиссимо5, беспрестанно, анданте6; и аллегро7: почти различить невозможно, мелодии никакой. Церковь старинная, стены сверху донизу покрыты резьбой, но все это очень грубо, аляповато и без всякого вкуса. Иконостас в одном стиле, а стенная резьба в другом; огромное закопченное паникадило8; над дверьми и между окнами множество херувимов с раскрашенными лицами; кисти разные, шнуры по стенам вперемешку с арабесками9 домашней работы. Вообще заметно желание налепить как можно больше всяких украшений, не разбирая - идет оно к другому или нет. Живопись тоже плохая.
Пока мы пробирались вперед, Ф[окин] успел уже кой-кому шепнуть что-то обо мне, так что когда мы стали позади правого клироса и я оглянулся, то встретил уже несколько любопытных взглядов и даже два-три поклона. Стою, вдруг сзади кто-то спрашивает:
- Вы надолго изволили приехать в наш город?
Я оглянулся.
- Не знаю, - как придется.
- Честь имею рекомендоваться, такой-то.
- Очень приятно.
Спустя несколько минут опять:
- А ведь в нашем городе, я вам скажу, любопытного мало.
- Неужели?
- Ей-богу. Невежество это, знаете, грубость какая-то.
- Мм!
- За охотой ходить здесь хорошо. Вы не охотитесь с ружьем?
- Нет.
- А вот у нас С.К. Все стреляет, - охотник смертный.
Я посмотрел на С.К., а мой сосед фыркнул себе в горсть. С.К. заметил, что смеются, в недоумении обвел вокруг себя глазами и начал усердно молиться. Сосед мой, однако, не успокоился; немного погодя нагнулся мне к самому уху и спрашивает:
- Вы любите стихи?
Я ничего не ответил.
- У нас тут есть стихотворец свой, доморощенный, самородный эдакий талант, и какие же стихи качает - страсть. Вот бы вам прочесть.
Я молчу.
- Если угодно, я могу достать вам тетрадку - любопытно. Что ж такое? Отчего ж от скуки и не прочесть?
Но видя, что я не отвечаю, он вздохнул и стал подтягивать певчим.
После обедни Ф[окин] пригласил меня к себе пить кофе и оставил даже обедать. Тут, впрочем, узнал я не много нового: Ф[окин] все хлопотал о том, чтобы я как можно больше ел, а жена его, оказавшаяся отличной хозяйкой, до такой степени суетилась и старалась угодить, что мне даже стало совестно: точно я генерал какой-нибудь. После обеда, когда мы сели на диван, Ф[окин] рассказал, что в городе много купеческих капиталов10, но что все они, кроме двух-трех, ничего не значат, потому что в гильдию записываются во избежание рекрутской повинности11, что город записали было по числу капиталов в первый разряд, но голова поехал в Петербург хлопотать о том, чтобы выписать город из первого разряда, так как купцы не в силах нести всей тяжести возлагаемых на первоклассный город обязанностей.
- Наш городочек маленький, жалкенький, где нам за другими тянуться? - говорил Ф[окин], сидя на другом конце дивана и добродушно, кротко улыбаясь.
- Как же вы говорите, что город ваш беден? Ведь у вас промыслы большие: кожевенный, кузнечный, рыболовный.
- Это все так, только нам все-таки до Ржева или до Старицы далеко. Всякие промыслы, всякие ремеcла есть у нас; каких-каких мастеров у наc нет, а ведь ни одного такого промысла нет, чтобы во всей силе, настоящий, значит, был.
Есть вон, пожалуй, - спохватившись, заметил он, - есть, точно, фабрика бумажная12, да ведь городу от нее пользы никакой, и работают-то на ней больше чужие, не здешние; ну кузнечики точно, что еще туда-сюда, поколачивают, а настоящий только один и есть Алексей Михайлович Мосягин. Беднеет наш городочек, - заключил он, - очень беднеет. Торгуем больше по привычке, для виду, этими там сапожками да рыбкой. Гордости у нас много, потому и торгуем. Рыбкой и то обеднели: повывелась рыбка совсем.
- Ну, а как же банк-то? Откуда же там двести тысяч?
Ф[окин] улыбнулся.
- А как бы нам копейку, - закричал он в другую комнату. - Как бы хорошо теперь копейку со сливочками.
- Сейчас, сейчас, сливки греются, - слышно из залы.
Там уж давно гремели чашки, мальчик бегал, осторожно ступая по отлично вымытому полу, и вот опять является поднос с чашками и с какими-то особенными сушеными булками.
- Пеночек-то, пеночек побольше берите! - угощает меня супруга Ф[окина], вся красная от хлопот по хозяйству. Она тоже берет чашку и садится с нами пить кофе.
- А что, у вас папаша с мамашей есть? - спрашивает она с участием.
- Мамаша есть, а папаши нет.
- Ах, скажите, какая жалость!
Я начинаю скоро-скоро размешивать ложечкой кофе и стараюсь наморщить брови.
- Как у вас женщины хорошо одеваются! - говорю я, желая свести разговор с этого чувствительного предмета опять на Осташков. - Я сегодня видел у обедни: какие шляпки! какие бурнусы!
- Да, уж у нас бабеночки любят принарядиться, - лукаво подмигивая мне, отвечает Ф[окин]. - Театры, гулянья да наряды просто их с ума свели. Другая ложечки да образочки последние заложит; хоть как хочешь бедна, а уж без карнолинчика к обедне не пойдет.
- А разве у вас есть закладчики?
- У нас местечко такое есть: что хотите возьмут. Что кокошничков старинных с жемчугами, поднизей13, сарафанчиков парчовых снесли туда наши бабеночки: все принимают, ничем не брезгают. Мода такая у нас есть; опять танцы, публичные садочки, театры; ну, разумеется, никому не хочется быть хуже другой: осмеют. Из последнего колотятся, только бы одеться по моде да к обедне в параде сходить. Другая гражданочка всю неделю сапожки тачает не разгибаясь, и ручки-то у ней все в вару, ребятишки босые, голодные, а в церковь или на бульвар идти, посмотрите, как разоденется, точно чиновница какая.
А тут опять является поднос с вареньем, брусникой и мочеными яблоками. Наконец я начинаю чувствовать, что наелся до изнеможения, что к продолжению беседы оказываюсь неспособным и потому отправляюсь домой спать.
Странный человек этот Ф[окин]! Родился, учился и состарился в Осташкове, мастерство свое сам, собственными усилиями, довел до замечательного искусства; у него очень много вкуса, страсть ко всему изящному. На старости лет вздумал учиться музыке и самоучкой выучился играть на фортепьяно.
Вечером я сделал еще три визита с рекомендательными письмами.
Прежде всего пошел к одному сановнику, проживающему в городе, и застал его гуляющим по зале с каким-то гостем. Я отдал письмо. Сановник прочел и пригласил меня в гостиную.
- Не прикажете ли трубку?
Я отказался.
- Так вот-с, - начал сановник, свертывая письмо мое фунтиком, - вы приехали, собственно, затем, чтобы посмотреть на нас - осташей, - как мы тут живем?
- Об Осташкове столько писано, столько говорят, - начал было я.
- Да, стоит, стоит, нарочно стоит приехать посмотреть, любопытный город! Нет, я говорю, - обратился он к гостю, который тоже уселся поодаль, - я говорю, что значит Россия-то матушка?
- Да-с.
- Да вот хоть бы наш Осташков. Что такое? Вдруг где-то там, в захолустье, на болоте, стоит уездный городишко, растет, богатеет, заводит у себя свою пожарную команду, банк!.. Понимаете? - банк! Ведь это что такое? Театр!.. Библиотеку для чтения!.. А? Ну, где это видано? Наконец, живет самостоятельно, как будто там какой-нибудь Любек, что ли14. И никто об этом знать не хочет. А ведь будь это за границей, уши бы прожужжали, а у нас нет. Самолюбием бог нас обидел, вот горе! Я вон депешу сейчас прочел в газетах: дают знать, что королева Виктория15 проехала из Винзора в Осборн (она туда каждую неделю ездит); ведь депеша, не забудьте! Телеграф сообщает такое важное событие, а мы сдуру сейчас печатаем, что вот какое событие: королева проехала в Осборн. Да на кой черт мне это нужно?.. (слово черт сановник произнес чхорт). Ты вот мне лучше о родном городе напиши, чтобы я знал, что вот в таком-то городе такие-то улучшения, а он мне про королеву Викторию!
- Ведь это все Федор Кондратьич, - заметил гость.
- А? Да, вы про улучшения. Да, ну не совсем. Он, конечно, имеет на них большое моральное влияние и многое может сделать для города. Да чего же лучше? Теперь пожарная команда есть. Своя ведь у нас пожарная команда, не казенная, из обывателей, - сообщил он мне.
- Как же-с, я знаю, - поспешил я ответить.
- Нет, я ему говорю: "Что ты не выхлопочешь себе полиции из обывателей?"
Его же там в Петербурге все знают: мог бы выхлопотать; и ведь разрешат.
- Отчего же не разрешить? - заметил гость.
- Как?
- И я говорю, что отчего же не разрешить? - повторил гость погромче.
- Ну да, разумеется. ведь они могут быть покойны. Знают, кому разрешить. Другому, конечно, не позволят. Эй! Подай мне трубку! - вдруг крикнул сановник.
- И мне, братец, тоже, - сказал гость.
Старый лакей, с длинными седыми висками, принес две трубки и зажженную бумажку. Подал трубки, подержал бумажку и потом погасил ее пальцами.