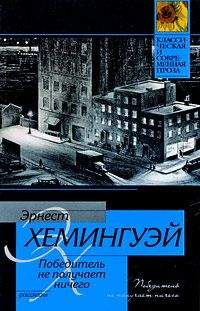Эрнест Хемингуэй - Трактат о мертвых
…Мадрид, в сущности, странный город. Я уверен, что с первого раза он никому не может понравиться. В нем совсем нет того, чего привыкли ждать от Испании. Это вполне современный город, без всякой экзотики: ни национальных костюмов, ни кордовских шляп — разве что на голове какого-нибудь шарлатана, — ни кастаньет, ни отвратительных подделок вроде цыганских пещер в Гренаде. Во всем городе нет ни одного уголка с местным колоритом на потребу туристам. Но когда вы узнаете его поближе, вы почувствуете, что это самый испанский город в Испании, что жить в нем очень приятно, что мадридцы — чудесный народ, что там из месяца в месяц стоит отличная погода и что любой другой крупный центр, столь характерный для провинции, в которой он расположен, представляет либо Андалусию, либо Каталонию, либо Страну басков, либо Арагон, либо еще какую-нибудь область. Только в Мадриде вы почувствуете подлинную сущность Испании, ее квинтэссенцию. А квинтэссенция может храниться в самой обыкновенной бутылке, и не нужны ей никакие пестрые ярлыки, как Мадриду не нужны национальные костюмы; какое бы здание ни возвели мадридцы, — пусть даже оно напоминает Буэнос-Айрес, — достаточно увидеть его на фоне этого неповторимого неба, и вы уже знаете, что вы в Мадриде. Не будь там ничего, кроме музея Прадо, и то, — если средства позволяют вам провести месяц в одной из европейских столиц, — стоило бы каждую весну пожить месяц в Мадриде. Но когда к вашим услугам и Прадо, и сезон боя быков, когда меньше двух часов езды отделяют вас от Эскуриала на севере и от Толедо на юге, и прекрасные дороги ведут к Авиле и Сеговии, а оттуда рукой подать до Ла-Гранха, — тогда очень горько сознавать — безотносительно к вопросу о бессмертии, — что настанет конец и не придется больше видеть все это.
Музей Прадо в высшей степени характерен для Мадрида. Снаружи он не более живописен, чем американский колледж. Полотна развешаны так бесхитростно, так удобно для обозрения, так хорошо на них падает свет, так мало сделано усилий — за исключением картины Веласкеса «Менины» — выставить напоказ и подать поэффектнее прославленные шедевры, что турист, перелистывающий красный или голубой каталог в поисках самых знаменитых полотен, невольно испытывает разочарование. В сухом горном воздухе чудесно сохранились краски, картины висят просто, без затей, их отлично можно рассмотреть, — уж нет ли тут обмана? Мне случалось видеть недоуменные взгляды туристов. Слишком свежи краски, слишком хорошо видны эти картины, — не могут они быть творениями старых мастеров. Так бывает только в торговых помещениях, где картины современных художников выставлены на продажу и где стараются показать товар лицом. Что-то здесь неладно, думает турист. Какой-то подвох. То ли дело итальянские картинные галереи: там за свои деньги набегаешься, разыскивая нужное полотно, а если и найдешь его, то не разглядишь как следует. Тогда только он и восчувствует, что перед ним великое искусство. Он полагает, что великому искусству требуются пышные рамы и либо красный бархат, либо плохое освещение для придания ему блеска. Такой турист похож на человека, который, зная о некоторых сторонах жизни только из порнографических книг, вдруг очутился бы перед обаятельной женщиной и увидел ее во всей наготе, без прикрас и ухищрений, молча ожидающей на самом неприхотливом ложе. Ему, вероятно, понадобилось бы руководство или, на худой конец, некоторые справки и указания. Может быть, это одна из причин, почему об Испании написано столько книг. На каждого любителя Испании приходится десяток людей, предпочитающих книги о ней. Франция, наоборот, — на нее больший спрос, чем на книги о Франции.
Самые толстые книги об Испании обычно пишут немцы, которые едут туда на длительное время, но никогда больше не возвращаются. Я склонен думать, что это неплохая система: если кому-нибудь непременно нужно писать об Испании, то пусть пишет как можно скорее, после первой же поездки, ибо дальнейшее знакомство со страной может только затемнить первое впечатление, и тогда уже нельзя будет делать выводы с такой легкостью…
Хотите поболтать? О чем? О живописи? О чем-нибудь, что понравилось бы мистеру Хаксли? Или подняло бы значение книги? Пожалуйста, здесь конец главы, мы можем это сделать. Так вот: немецкий искусствовед Юлиус Мейер-Грэфе приехал в Испанию с целью посмотреть Гойю и Веласкеса, дабы они вдохновили его на годные для печати излияния восторга, но ему больше понравился Эль Греко, поэтому он написал книгу, в которой превозносил Греко и доказывал, какие плохие художники Гойя и Веласкес, причем судил о них по тому, как каждый из них написал распятие Иисуса Христа.
Трудно было придумать что-нибудь глупее этого, ибо из всех троих один Греко верил в Христа или интересовался распятием его. Судить о художнике можно только по картинам, на которых он пишет то, во что верит, или что любит, или ненавидит, а судить о Веласкесе, любившем пышность наряда и верившем в живопись ради живописи, по портрету полуголого человека, распятого на кресте, которым он ничуть не интересовался и который, — Веласкес не мог не чувствовать этого, — вполне удовлетворительно был изображен в той же позе другими художниками, — просто неумно.
Гойя походил на Стендаля: вид сутаны для этих ревностных антиклерикалов был огромным стимулом к творчеству. Распятие Гойи — грубо намалеванная лубочная олеография, которая с успехом могла бы служить объявлением о предстоящем распятии, — что-то вроде афиши о бое быков. «На мадридской Центральной Голгофе, в пять часов дня, с разрешения властей, состоится распятие шести отборных спасителей. Выступают лучшие, знаменитейшие, искуснейшие распинатели, каждый со своей куадрильей сколачивателей, пригвоздителей, крестоводрузителей, крестовкопателей» и так далее.
Греко любил писать картины на религиозные сюжеты, потому что он, несомненно, был религиозен и еще потому, что это давало ему возможность не ограничивать свое несравненное искусство точным воспроизведением черт лица тех аристократов, с которых он писал портреты, уходить от них в свой собственный мир и — вольно или невольно — наделять апостолов, святых, спасителей и мадонн чертами и формами двуполых существ, населявших его воображение.
Веласкес верил в костюмную живопись, в гончих, карликов и опять-таки в живопись. Гойя не признавал костюма, он верил в черные и серые тона, в пыль и свет, в нагорья, встающие из равнин, в холмы вокруг Мадрида, в движение, в свою мужскую силу, в живопись, в гравюру и в то, что он видел, чувствовал, осязал, держал в руках, обонял, ел, пил, подчинял, терпел, выблевывал, брал, угадывал, подмечал, любил, ненавидел, обходил, желал, отвергал, принимал, проклинал и губил. Конечно, ни один художник не может все это написать, но он пытался.
Греко верил в город Толедо, в его местоположение и архитектуру, в некоторых его обитателей, в голубые, серые, зеленые и желтые тона, в красные тона, в Святого Духа, в причастие и всех святых, в живопись, в жизнь после смерти и в смерть после жизни и в сказку…
Если бы я написал настоящую книгу, в ней было бы все. Музей Прадо, похожий на американский колледж, с зеленой лужайкой, которую поливают по утрам под жарким солнцем мадридского лета; голые меловые холмы вокруг Карабанчеля, августовские дни, проведенные в поезде, когда на солнечной стороне опущены занавески и ветер колышет их; поднимающаяся над гумном мякина, которую ветром доносит до стенок вагона; запах пшеницы и сложенные из камня ветряные мельницы. В ней был бы Альсасуа, где кончается цветущий край, а по ту сторону обширной равнины — Бургос, где мы ели сыр в номере гостиницы; и юнец, который вез с собой образцы вин в оплетенных флягах; он в первый раз ехал в Мадрид и от восторга откупоривал их одну за другой, и все перепились, включая двух гражданских гвардейцев, и я потерял билеты, и гвардейцы провели нас через контроль на перроне (они шли по бокам, как будто конвоируя арестантов — ведь билетов-то не было, — а потом, взяв под козырек, посадили нас в такси); и еще там было бы про Хадли с завернутым в носовой платок бычьим ухом — ухо стало очень твердое и сухое, и вся шерсть повылезла, а матадор, который отрезал его, теперь тоже лысый и зализывает длинные пряди волос на голой макушке, но тогда он был красивый. Правда, правда — очень красивый.
Нужно было бы показать, как меняется местность, когда в сумерках, миновав горы, поезд въезжает в Валенсию, а вы держите на коленях петуха, которого ваша соседка по вагону везет в подарок своей сестре; описать деревянное здание цирка в Альсирасе, где убитых лошадей выволакивают прямо в поле и приходится переступать через них; и шум на мадридских улицах после полуночи, и ярмарку, которая в июне открыта до утра, и возвращение пешком с боя в такси. Que tal? Malo, hombre, malo,[2] и, как всегда, подымает плечи; я ему — дон Роберто, он мне — дон Эрнесто, он так учтив, так любезен и такой хороший друг. И дом, в котором Рафаэль жил до того, как звание республиканца стало почетным, с чучелом бычьей головы — быка убил Гитанелло — на стене, и большим кувшином для оливкового масла в углу, и всегда вас там ждали подарки и необыкновенно вкусный ужин.