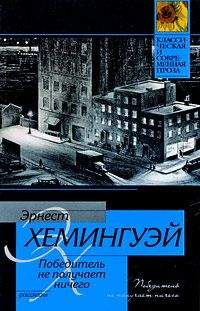Эрнест Хемингуэй - Трактат о мертвых
АВТОР. Ах, сударыня, уже много лет, как я отказался от заключений. А вам его действительно не хватает?
СТАРАЯ ЛЕДИ. По правде говоря, сударь, мне больше нравится с заключением… И вы как будто сказали, что это будет вроде «Занесенных снегом» Джона Гринфила Уиттира?
— Сударыня, я опять ошибся. Мы метим высоко, но редко бьем по цели.
СТАРАЯ ЛЕДИ. Знаете, при более близком знакомстве вы мне нравитесь все меньше и меньше.
— Сударыня, никогда не следует близко знакомиться с автором.
Я не знаю ни одного современного скульптора, за исключением Бранкузи, чьи работы хоть отчасти обнаруживали бы такое совершенство пластики, как новейшая техника боя быков. Но, подобно пению или танцам, это преходящее искусство, одно из тех искусств, которых Леонардо да Винчи советовал избегать, и когда исполнитель сошел со сцены, его искусство живет только в памяти очевидцев и умирает вместе с ними. Разглядывание фотографий, чтение описаний, слишком частые попытки припомнить виденное могут лишь убить память о нем. Будь искусство боя быков непреходящим, оно могло бы стать одним из высоких видов искусства, но это не так, и потому оно исчезает вместе с создавшим его, тогда как в других отраслях искусства о творчестве того или иного мастера даже и судить-то трудно, прежде чем его бренные останки не будут преданы земле. Предмет этого искусства — смерть, и смерть уничтожает его. Но, возразят вам, оно не пропадает полностью, ибо во всяком искусстве все открытия, все закономерные новшества подхватываются и продолжаются кем-нибудь другим. Так что, собственно говоря, ничего не потеряно, кроме самого мастера. Да и сколь утешительна мысль, что даже если бы с кончиной художника исчезали и его полотна, то все открытия, скажем, Сезанна, не пропали бы, а нашли себе применение у его подражателей. Как бы не так!
Вообразите, что картины художника исчезают вместе с ним, а книги писателя автоматически уничтожаются после его смерти и впредь существуют только в памяти тех, кто их читал. Именно это происходит в бое быков. Мастерство, метод, усовершенствованная техника, открытия остаются; но тот, кто задумал все это и осуществил, кто был пробным камнем, первоисточником, исчезает, а потом — пока не явится другой столь же великий мастер — все достигнутое первым, усилиями подражателей искажается, растягивается, укорачивается, тускнеет и теряет всякое сходство с оригиналом. Любое искусство создается только крупными мастерами. Вне их творчества нет ничего, и все направления в искусстве служат лишь для классификации бесталанных последователей. Когда появляется истинный художник, великий мастер, он берет все то, что было постигнуто и открыто в его искусстве до него, и с такой быстротой принимает нужное ему и отвергает ненужное, словно он родился во всеоружии знания, ибо трудно представить себе, чтобы человек мог мгновенно овладеть премудростью, на которую обыкновенный смертный потратил бы целую жизнь; а затем великий художник идет дальше того, что было открыто и сделано ранее, и создает свое, новое. Но иногда проходит много времени, прежде чем опять явится великий художник, и те, кто знал старых мастеров, редко сразу признают нового. Они отстаивают старое, хотят, чтобы все было так, как хранит их память. Но другие, младшие современники, признают новых мастеров, наделенных даром молниеносного постижения, и в конце концов и приверженцы старины сдаются. Их нежелание сразу признать новое простительно, ибо, ожидая его, они видели так много лжемастеров, что стали придирчивы и перестали доверять собственным впечатлениям; надежной казалась только память. А память, как известно, всегда подводит.
А как же Старая леди? Нет ее. Мы в конце концов выбросили ее из книги. Поздновато, по-вашему? Да, пожалуй, можно бы и раньше. А лошади? О лошадях нечего сказать, кроме того, что всегда говорят о них, рассуждая о бое быков. Может быть, достаточно о лошадях? Предостаточно, по-вашему? Всем нравится бой быков, но никто не любит смотреть на несчастных коняг. Может быть, поднять общий тон? Не поговорить ли нам о более высоких материях?
Мистер Олдос Хаксли так начал свой эссей, озаглавленный «Предумышленное низколобие»: «В книге (следует название книги автора этих строк) мистер X. рискнул помянуть одного из старых мастеров. В единственной фразе, необычайно выразительной (здесь мистер Хаксли вставил несколько лестных слов), говорится о «горестных следах гвоздей» на теле Христа у Мантеньи; и тут же, скорей, скорей, испугавшись собственной дерзости (словно миссис Гаскэлл, если бы ей невзначай случилось помянуть ватерклозет), автор, краснея от стыда, возвращается к более низким предметам. Было время, в недалеком прошлом, когда тупые и необразованные люди пытались казаться умными и просвещенными. Ныне мы наблюдаем обратное явление: отнюдь не редкость натолкнуться на умного и просвещенного человека, который из кожи лезет вон, лишь бы выставить себя тупицей и скрыть от всех полученное им образование…» и так далее и так далее в том же духе, с присущей мистеру Хаксли высокой просвещенностью — очень высокой, нечего и говорить.
Ну, так как же? Очко в пользу мистера Хаксли, никаких сомнений. Что вы можете возразить на это? Разрешите мне ответить чистосердечно. Прочитав эти строки у мистера Хаксли, я достал экземпляр книги, на которую он ссылается, перелистал ее, но не нашел приведенных им слов. Может быть, они и есть, но у меня не хватило терпения разыскивать их, да и желания особенного я не испытывал, поскольку книга уже вышла и ничего нельзя было изменить. Такие места, как эта цитата, обычно стараешься вымарать еще в рукописи. Думается мне, тут вопрос более сложный, чем желание или нежелание козырять своей образованностью. Когда писатель пишет роман, он должен создавать живых людей, а не литературные персонажи. Персонаж — это карикатура. Если писателю удается заставить этих людей жить, может быть, в его книге и не будет значительных героев, но, возможно, его роман останется как целое, как нечто единое, как книга. Если людям, которых писатель создает, свойственно говорить о старых мастерах, о музыке, о современной живописи, о литературе или науке, пусть они говорят об этом и в романе. Если же не свойственно, но писатель заставляет их говорить, он обманщик, а если он сам говорит об этом, чтобы показать, как много он знает, — он хвастун. Как бы удачен ни был оборот или метафора, писатель должен применять их только там, где они безусловно нужны и незаменимы, иначе, из тщеславия, он портит свою работу. Художественная проза — это архитектура, а не искусство декоратора, и времена барокко миновали. Если автор романа вкладывает в уста своих искусственно вылепленных персонажей собственные умствования, — что несравненно прибыльнее, чем печатать их в виде очерков, — то это не литература. Люди, действующие в романе (люди, а не вылепленные искусно персонажи), должны возникать из накопленного и усвоенного писателем опыта, из его знания, из его ума, сердца, из всего, что в нем есть. Если он не пожалеет усилий и вдобавок ему посчастливится, он донесет их до бумаги в целости, и тогда у них будет больше двух измерений и жить они будут долго. Хороший писатель должен по возможности знать все. Разумеется, так не бывает. Когда писатель очень талантлив, кажется, что он наделен знанием от рождения. На самом деле этого нет: он наделен от рождения только способностью приобретать знание без осознанных усилий и с меньшей затратой времени, чем другие люди, а кроме того — умением принимать или отвергать то, что уже закреплено как знание. Есть вещи, которым нельзя выучиться быстро, и в таких случаях мы дорого платим за ученье, потому что время — единственное наше достояние. Это самые простые вещи, и на познание их уходит вся жизнь, а поэтому те крупицы нового, которые каждый человек добывает из жизни, драгоценны, и это единственное наследство, которое остается после него. Каждая правдиво написанная книга — это вклад в общий фонд знаний, предоставленный в распоряжение идущему на смену писателю, но и этот писатель, в свою очередь, должен внести определенную долю своего опыта, чтобы понять и освоить все то, что принадлежит ему по праву наследования, — и идти дальше. Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды. Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места. Писатель, который столь несерьезно относится к своей работе, что изо всех сил старается показать читателю, как он образован, культурен и изыскан, — всего-навсего попугай. И заметьте: не следует путать серьезного писателя с торжественным писателем. Серьезный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда — сыч.