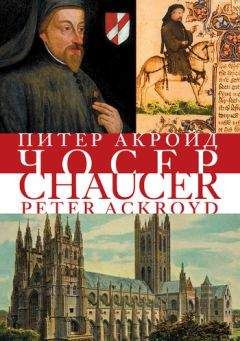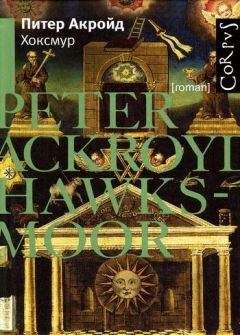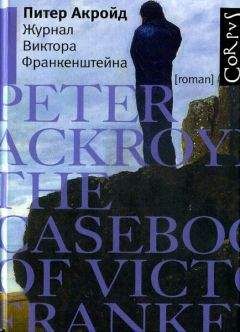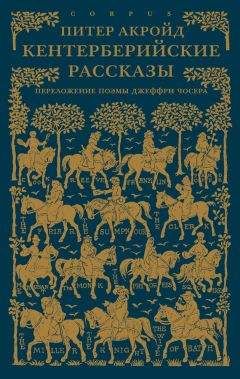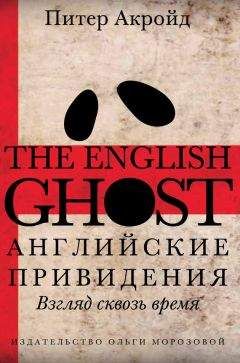Питер Акройд - Кларкенвельские рассказы
Эксмью подошел к харчевне, но, заслышав доносившийся из-за двери шум и гам, напоминавший грохот мельничных колес, повернул прочь. Кто-то горланил песенку «Моя любовь уехала со взморья». Нет, в таком обществе еда ему в глотку не полезет. Остановившись возле лавчонки, торговавшей жареной птицей, он взял на пенс двух вьюрков, обглодал, швыряя хрупкие косточки прямо на мостовую, и направился в западную часть города, к Ньюгейтской тюрьме.
А Ричард Марроу, оставив зубодера на милость толпы, вышел по улице Сент-Мартин на Олд-Чейндж. Неподалеку вовсю шла стройка, улицу оглашали крики: «Эй, ты!», «Ага!», «Ух!». Лошади и здоровенные псы-мастифы тянули повозки строителей. Во время коротких, хотя и частых перерывов рабочие играли в футбол или с кружками в руках распевали песни. Обычная для Лондона картина.
От шумной стройки Марроу повернул на Мейденхед-лейн и оказался в отлично знакомой ему части города. Здесь он был свой, и любой встречный-поперечный мог запросто окликнуть его по прозвищу: «Длинный Ричард» или «Долговязый Дик». О его тесных отношениях с Уильямом Эксмью никто не подозревал, но многие считали его «тронутым» или же «осененным» какой-то неземной силой. К примеру, он не выказывал ни малейшего почтения к богачам и знатным особам, при встрече с ними даже не бормотал приветственно «Храни вас Бог»; никогда не кланялся, не прятал руки в рукава, и, обращаясь к именитым господам, не сдергивал с головы шапку. Соседи, опасаясь за добрую славу своей округи, частенько бранили его за такое поведение, а он обыкновенно отвечал: «Да лучше я древоточцев есть буду, чем кланяться тупицам». Когда его спрашивали, почему он ходит в рванье, плотник отделывался притчей про павлина: не сумев разглядеть себя темной ночью, тот решил, что утратил свою красоту, и заорал на весь лес. Да понимает ли он, что таким поведением нарушает принятый в городе порядок, спрашивали Марроу, и он отвечал вопросом: «Нешто малая птаха, капнув в море, нарушит морской покой?» И добавлял: «К тому же, я слишком длинный, низко кланяться мне несподручно». Более набожные соседи говаривали, что плотник, наподобие высящегося посреди улицы креста, указывает путникам дорогу.
К вечеру Хэмо Фулберд вернулся в монастырь Сент-Бартоломью. Ютился он в небольшом каменном амбаре, стоявшем в углу церковного двора, возле внешней стены; спал на доске, покрытой слоем соломы; под окном на низеньком столе были аккуратно разложены его рабочие инструменты. Одно молчаливое присутствие волосяных кисточек, карандашей, глиняных мисок и стеклянных плошек умиротворяло его. Не было там ни шерстяных одеял, ни ковров, ни подушек. Всё просто и голо, как и сам амбар, разве только земляной пол покрыт тем же дерном, что и церковный двор за амбарной дверью. Усевшись на табурет, Хэмо принялся за пергамент, который за усердие дал ему учитель, отец Мэтью. Это был набросок к «Трем живым и трем мертвым»[21] — живые держат в руках свитки с написанными на них богохульствами: «Клянусь мощами Господа, эль был хорош», «Клянусь ступнями Христа, я тебя обыграю в кости» и даже «Клянусь сердцем Христовым, в город я все же поеду». Одна из фигур была нарисована плохо; Хэмо стал стирать ее кусочком вяленой рыбы, как вдруг в амбар неслышно вошел Эксмью.
— Хрупок сей мир, Хэмо, — произнес он, разглядывая рисунок из-за спины юноши. — Хрупок и холоден.
— Ночь нынче холодная.
— Есть город плутов, и есть Божий град. Тот малый был из плутов.
— Ты про зубодера?
— Он уже в аду.
— Как, умер?!
Эксмью положил руки ему на плечи и промолвил:
— Отправился прямиком в преисподнюю.
Хэмо в жизни не догадался бы и не заподозрил, что Эксмью лжет. Зубодер был живехонек, сидел в харчевне «Бегущий пирожник» и в который уже раз повествовал о том, как на улице Сент-Мартин на него вдруг напали неизвестные.
— Труп перевезли в здание гильдии цирюльников и хирургов, для вящего процветания его ремесла, — продолжал Эксмью. — Пока его не похоронят, придется подержать тебя взаперти. Сиди и даже носа не высовывай.
Хэмо покачался на табурете.
— Почему? Отчего я не могу участвовать в забавах добрых людей?
— Каких таких добрых людей? Мир кишит ворьем. — На Эксмью вдруг нахлынуло совершенно незнакомое чувство жалости. — Не унывай. Зато твой лучший друг по-прежнему жив.
— Кто же это?
— Ты.
Хэмо заплакал, потом громко рассмеялся:
— Выходит, я теперь так же одинок, как при появлении на свет.
— Ты не одинок. Ты принадлежишь царству благословенных.
Хэмо уже приходилось слушать, как Эксмью растолковывает плотнику новую тайную религию, и всякий раз не мог подавить недоверия, когда Эксмью заявлял, что Христос вовсе не по собственной воле пошел на крестные муки, а вроде бы стал жертвой заговора двух других членов Троицы. Слушал он и их беседы о судьбе и Провидении.
— Стало быть, что ни случается, все по воле судьбы, — заключил как-то Марроу.
И тут, сидя на табурете с куском вяленой рыбы в руке, Хэмо все это припомнил и спросил Эксмью:
— Выходит, Божественному Провидению все известно заранее?
Эту тему, сравнительно недавно поднятую оксфордскими теологами, широко обсуждали в городе. Многие люди доходили до полного отчаяния от мысли, что их судьба предрешена и злой рок неотвратим, он лишь ждет своего часа. Некоторые бичевали себя, готовясь к предстоящим карам. Среди духовенства эти настроения настолько обострились, что Папа Римский издал энциклику против греха уныния. Сознание вечности Бога и предрешенности всей их жизни повергало обывателей в состояние безысходности и апатии. Но были и такие, кто прославлял новое учение. Они уже не чувствовали никакой ответственности за свои поступки и грешили без малейшего раскаяния: они же не властны выбирать между небом и адом и потому могут действовать — или бездействовать — совершенно безнаказанно.
— Значит, я уничтожил зубодера, повинуясь Провидению или судьбе?
— Всё будет хорошо.
— Так ли?
— Не выходи и не выезжай за стены монастыря без моего особого распоряжения.
С тем Эксмью ушел, а Хэмо Фулберд продолжил трудиться над рисунком. Внезапно он уронил голову на пергамент и зарыдал, взывая к безграничному милосердию Божию.
Глава третья
Рассказ купца
На улицу Сент-Джонс тихонько прокрался предрассветный час. По Писсинг-элли, ловко увильнув от ночного сторожа, просеменил хряк; в одном из многочисленных доходных домишек зашелся плачем младенец. Радулф Страго, торговец галантерейным товаром, собрался покинуть супружескую кровать, где крепко спала его жена. Ночью ему приснился страшный сон, будто он говорит матери: «Я дам тебе два ярда льняной ткани, чтобы завернуть твое тело после того, как тебя повесят». Причем даже в ту жуткую минуту он сознавал, что мать, объевшись клубникой, мирно скончалась года три тому назад. А во сне вдруг пошел густой снег, хлопья были похожи на клочья шерсти. Радулф отмахивался от них хлопушкой для мух, но клочья лишь превращались во фриз[22] или сукно. Проснулся он весь в поту, но, будучи человеком деловым, сразу стал думать о предстоящем рабочем дне, а мрачные видения выбросил из головы как никчемные фантазии. По-прежнему мучила боль в желудке — то ли от несварения, то ли его сводила судорога. Накануне он был уверен, что его прослабит и боль отпустит, однако живот крутило по-прежнему.
Осенив себя крестом, он встал с кровати; с оханьем доплелся до деревянного столика, расчесал волосы и принялся мыть в тазике руки и лицо. Набросив на голое тело льняную сорочку, опустился на колени и прочел «Отче наш» и «Верую». Потом присел на краешек кровати, привычно пробормотал литанию к Богоматери и стал натягивать короткие шерстяные носки и шерстяные же лосины в синюю и горчично-желтую полоску. Весенним утром камзол ни к чему, рассудил он, а потому надел лишь синюю саржевую блузу простого покроя. Шепотом, чтобы не разбудить жену, произнес в заключение Memento, Domine[23] и завершил туалет длинным зеленым жилетом с алым капюшоном. «Молился я всем сердцем, так что пошли мне, Господи, хороший барыш», — едва слышно пробормотал он, затем сунул ноги в остроносые башмаки тончайшей красной кожи, аккуратно зашнуровал их и по деревянной лестнице спустился в светлую комнату, где на соломенном тюфяке спал его подмастерье.
— Тру-ля-ля, Дженкин, — громко пропел Радулф, чтобы разбудить паренька. — На дворе-то весна-красна.
Радулфу Страго уже исполнилось пятьдесят семь лет — возраст, можно сказать, преклонный. Однако за два года до описываемых событий он женился на женщине много моложе его и не без основания считал себя счастливцем. В последнее время, правда, к нему привязалась какая-то хворь. Его ежедневно рвало, а стул был жидкий, водянистый. Иногда накатывал страх — вдруг у него рак или нарыв в желудке, но он гнал от себя эти мысли, приписывая немочи своей сангвинической натуре. Вот изменится расположение звезд, и все наладится. В галантерее, во всяком случае, дела шли прекрасно — благодаря удачному расположению, между монастырем и городом. Сент-Джон-стрит вела прямиком к воротам монастыря Св. Иоанна Иерусалимского, так что многочисленные богомольцы не могли миновать лавку Страго. Да и те, кто направлялся в Смитфилд, оказывались на той же улице и по дороге заглядывали к галантерейщику — кто за шляпами и шнурками для башмаков, кто за гребнями и льняными нитками. Магазин находился на первом этаже, окнами на улицу. Туда, не дожидаясь Дженкина, Страго и спустился. Отпер ставни, разложил складной прилавок и, открыв входную дверь, глубоко вдохнул утреннюю свежесть. Первые лучи солнца заиграли на пестрых тканях, детских кошельках, свистульках, деревянных шкатулках, бусах, листах пергамента из телячьей кожи; в такую рань все было торжественно и тихо. Но вот раздался колокольный звон, и всей улице стало ясно, что пришла пора просыпаться. Наверху кашлял и отплевывался Дженкин, потом неразборчиво выругался.