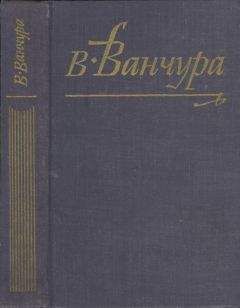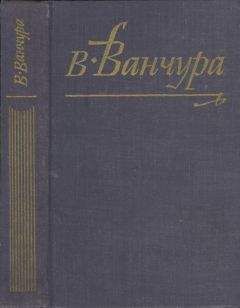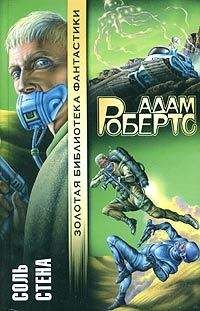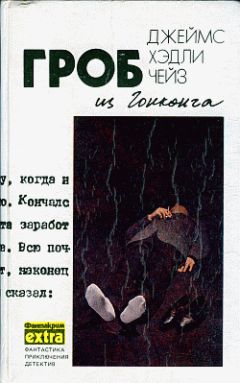Владислав Ванчура - Пекарь Ян Маргоул
Ян с Йозефиной ушли, Дейлу и остальным друзьям выпало на долю гнать покупателей из дому.
— Аукцион окончен! Окончен! — кричали они, пока Рудда помогал выносить вещи, не принадлежавшие больше Маргоулу.
Когда ты вынужден работать ради денег, поневоле будешь служить богатым, и Рудда мог здесь подработать, поскольку он спустил последние гроши, скупая, что мог, для Маргоула.
— Все, — произнес Дейл, запирая дверь. — Нынче-здесь никто и нитки не украдет.
Маргоул с женой вернулись поздно, а сын провел эту ночь в чужом доме. Комнаты стояли пустые. Йозефина плакала. Ян думал о том, как он станет мельником; так наступила ночь, что равно укрывает вершины безумия и ущелья разбоя.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Рудда, продавец содовой, кусал кулаки. Грязь, покрывавшая пол его жилья, стекала ручейком под темную печь; пахло дымом и какой-то недоваренной нищенской едой, разлитой по горшкам. Паук-крестовик ковылял над трехгранным пространством угла, а у ног Рудды лежала сука, повизгивая во сне. На улице шарманщик извлекал из своего звучного ящика затасканную песенку — так батрак извлекает ведро с водой из колодца. Песенка проникала в комнату через многочисленные щели.
Из себя не корчим бедных, знай поем да топаем.
Мы из пуговиц из медных воз монет нашлепаем.
Босая нога Рудды притопывала в такт, шлепая, словно мягкая губа пьяницы.
Этому неверующему иудею было лет сорок. Быть может, он был сыном какого-нибудь торговца и потаскушки, зачавших его жалкую жизнь где-нибудь в подворотне, пока жена развратника искала медяк, чтоб бросить шлюхе у своих ворот. А может быть, он был сыном точильщика ножей и ножниц, подоспевшего как раз в то время, когда старый еврей подыхал на супружеском ложе и хозяйка его, все еще полная похоти, задрала свои вонючие сальные юбки, прислонившись к двери, за которой хрипел муж.
Нечистокровное еврейство Рудды все же отметило его довольно-таки крупным носом и буйной порослью волос. Мать, оставшаяся неизвестной, отдала его придурковатой бабе, когда младенцу не было и десяти дней.
Кто он был? Вечно хнычущий ребенок, мальчишка, покрытый болячками, человек с философией киника, книголюб и безбожник, верящий в какой-то свет, как верит слепой от рождения.
Теперь он сидел, притопывая ногой, и думал о Маргоуле, потому что Ян был ему другом.
Если бы Ян добился отсрочки платежей, начал бы торговать зерном и снова занялся хлебопечением, он мог бы вносить хоть проценты и опять встал бы на ноги.
Потери пекаря казались Рудде огромными… Он считал тысячи, уплывшие у Яна из рук, — их было двадцать, тридцать! Ах, если б Ян поступил так-то и так-то, если б он думал о деле!
Все советы продавца содовой касались безвозвратно упущенного. А вот что следовало предпринять Маргоулу теперь, этого Рудда не знал, его планы имели все преимущества мечты, но были ни к чему непригодны. Он сидел в одной бочке со всеми беднягами, которые гонятся за идиотским «если бы». Ах, этим словечком легко воздать честь бедняку, хотя бы он был избит и истекал кровью.
Рудда, притопывая ногой, все измышлял маловероятные способы осчастливить пекаря; вдруг дверь распахнулась и вошел старый музыкант Летак.
Как дела, Рудда? — сказал он в знак приветствия.
Ничего, — ответил тот.
Что ж, — заметил Летак, — в таком случае они станут еще лучше. Я видел, как Маргоул вошел в корчму еврея Котерака; Ян уезжает из города, Рудда, и я подумал, что хорошо бы устроить ему проводы. Бери свой корнет и пойдем.
Не хочу, — возразил Рудда, — с меня довольно ваших попоек и вечных кутежей.
Но Летак стал настаивать, и Рудда поднялся. Эти двое вносили в жизнь города большой соблазн. Корнет-а-пистон Рудды и гармошку Летака частенько можно было слышать в трактирах, и никогда они не оставались в одиночестве; Гула со своим бас-бомбардоном и Боровичка, дувший в валторну, сопровождали их. Этот квартет хватался за любые песенки и таскал их по кабакам, как мясник тащит скотину на убой.
Нас всего двое, — заметил Рудда. — Если уж играть, то надо зайти за остальными.
Боровичку я видел, — сказал гармонист. — Он сказал, что придет, а наш бас-бомбардон уже наяривает.
Рудда удивился: этому инструменту трудно играть в одиночку.
Когда они вошли в корчму, Ян, уже совсем хмельной, драл глотку.
— Пейте! — заорал он пришедшим.
Даромдай помер, Куписебе родился: кто будет платить? — осведомился Котерак.
Я, — заявил Маргоул, и собутыльники расхохотались. — Я, либо он, либо гром-батюшка! Ну, пейте же, пейте, чтоб чертям тошно стало, дуйте в свои инструменты! Пускай они дрогнут хоть перед всесильной водкой!
Кровь бедняков — глубокое море; обиды и беды — смерчи, вздымающие лоно его. В корчме одеревеневшая рука бьет в пустоту и пьяный бросается на собственную тень; но все же — пускай он только Рыцарь Печального Образа, пускай только пьяный безумец — все же кулаки остаются при нем, он лезет в драку и становится страшен.
Осторожность у пьяного парализована чувством обиды — жаль, что только тогда бедняки сжимают кулак, жаль, что горе и гнев свой они изливают в сточную яму!
К одиннадцати ночи сгустилась тень опьянения, багровой завесой накрыв девятерых горемык, орущих в корчме. Жидкость в бутылке сверкает, словно она — средоточие мира, а все остальное — тщета, ибо прошло, отошло от нас все на свете и напрасны надежды. Шатаясь, разбредутся бедняки по домам, залезут в свои берлоги, чтоб утром проснуться еще более приниженными. Бас-бомбардон в корнет-а-пистон оставит себе в залог Котерак, которому вовсе не хочется терять свои деньги.
Ночь залегла темнотой — играйте! Третий час пополуночи врывается в башенный звон — пойте! Но прежде, чем пробьет четыре, перед самым рассветом, тащите домой бремена своей мерзости — ведь даже теперь вы не перестали испытывать стыд.
Утром Маргоул очнулся в комнате Рудды — он был обессилен вчерашней попойкой и не мог встать. Продавец содовой лежал, укрывшись старым полушубком, и храпел. Было, верно, часов девять, день проходил мимо, оставляя комнату в темноте. Постепенно сознание возвращалось к пекарю, он припомнил ночной разгул, увидел самого себя, как бредет он, качаясь, к стойке, и четырех музыкантов, мотающихся перед ним. Клочья и комья прошедшей ночи рвались из легких, и Ян выхаркивал их. Встал, поискал воды, но вся посуда была пуста; тогда он вышел во двор и набрал воды в колодце. Потом отвязал собаку и вместе с нею вернулся в комнату. Голодная сука опрокинула один из стоявших на полу горшков. Рудда сел на койке, и Ян обрадовался, что наступил конец несносной тишине.
Вчера, — заговорил он, — ты больно разжалобился, все плакал и падал ничком, не мог ни петь, ни играть. Я взял твой корнет-а-пистон и сам играл на нем.
Ничего подобного, — возразил Рудда, — это как раз ты ревел белугой, а я играл.
Ян снял куртку и рубаху и, налив таз до краев, стал умываться, полной горстью разбрызгивая воду. Он сильно выдыхал воздух через ноздри, наливаясь жизнью; он был уже почти здоров. Зато Рудда лежал разбитый, и Яновы здоровье и свежесть, словно выставленные напоказ, были ему более чем противны. Он отвернулся, пробормотав какое-то ругательство и перестав слушать, что говорит Ян. Сейчас в нем жили только болезнь да гнев. По Ян не обиделся, когда Рудда ему не ответил; он вышел вон и пошел куда глаза глядят, уводя с собой пса. На воле светило солнце, бенешовцы шли двумя потоками — одни по солнечной, другие по теневой стороне, — разнося порожденную ими же скуку.
Ян вел себя как обычно: здоровался, и ему отвечали — чуть насмешливо, потому что этот пекарь не был больше пекарем.
Кто-то сказал ему:
— Не время теперь расхаживать по городу руки в карманах!
Другой крикнул:
— Поторопитесь, хозяин, у вашей лавки много народу, свежего хлеба спрашивают! Скорее, а то как бы не разошлись!
Маргоул в ответ смеялся. Он обошел площадь и тут, вспомнив об Йозефине, заторопился.
— Где ты пропадал? — спросила она. — Я жду тебя с вечера.
Мешая правду и ложь, он рассказал о ночном кутеже. Йозефина рассердилась.
Я-то думала, ты понял, в каком мы положении, думала, ты больше заботишься о Яне Йозефе! Все, что у нас осталось, связано вот в этом узле, а денег самое большее — двадцать гульденов!
Двадцать гульденов… — повторил Ян, складывая руки знакомым старым движением — как будто на нем еще повязан фартук.
Подошла Руддова сука, ткнулась холодным носом в руку Яна. Пекарь умел делаться всем, чем хотел, — теперь он превратился в собачника, стал гладить собаку, жалея ее за худобу, и его невозмутимость остановила упреки Йозефины.
Я же вернулся, — сказал он. — И вот что; раз уж я привел эту собаку, думаю, надо нам взять ее с собой. Кажется, пес добрый и совсем не старый, наш Доп той же породы, а так как мы будем развозить хлеб, то нам пригодятся оба.