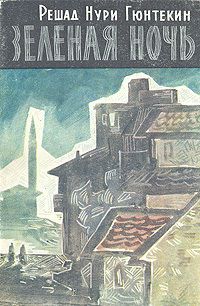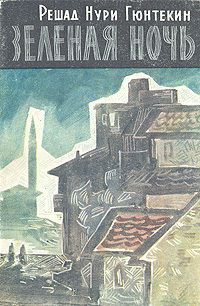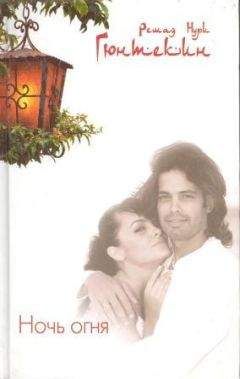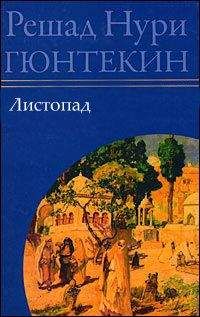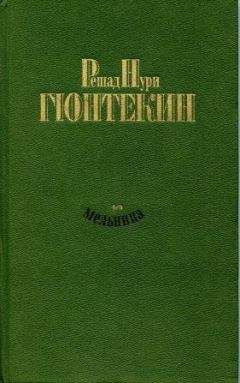Решад Гюнтекин - Клеймо
Отец в эту минуту выглядел до того постаревшим, осунувшимся и несчастным, что на глаза мои невольно навернулись слёзы. Затуманились стёкла очков, и передо мной всё вдруг поплыло.
- Ступай! Иди же, наконец! - Голос отца был слабым и усталым.
В отце я увидел в тот день совсем другого человека. И я думал, что мы станем теперь более близкими друг другу. Однако мои надежды не оправдались. Всё получилось наоборот: после этого разговора отец стал куда более резок со мной, ещё более недоступен.
Глава десятая
Из лицея мне пришлось уйти. И снова потянулись длинные, бесцветные дни, наполненные скукой и вынужденным бездельем. Кем я буду, что из меня получится? Никто этого не знал. Но, по крайней мере, никто теперь, даже моя няня Кямияп-калфа, не заикались больше о придворной службе.
Как-то на праздники к нам съехалась вся родня. В полдень из дворца вернулись отец и Музаффер. Братец, явно рисуясь перед гостями в своей парадной форме дворцового адъютанта с золотыми аксельбантами, чинно поздравлял каждого в отдельности с праздником. Гости не сводили с него глаз. Надо признаться, что на Музаффера - ему недавно исполнилось ровно двадцать - трудно было не заглядеться. Вид у него в самом деле был бравый!
Мой дядюшка долго восхищался Музаффером, говорил, что вся наша семья гордится им. Другие, конечно, соглашались, поддакивала ему. Но дядюшка всё же переборщил.
- Вот, Иффет, - сказал он, повернувшись в мою сторону, - бери пример со своего брата! Возраст у тебя уже подходящий. Если постараешься, тоже можешь стать таким, как он.
В его словах я усмотрел пренебрежение к себе: "Бери пример" прозвучало так, будто он хотел сказать: "Пока не поздно, возьмись за ум!"
Мне не раз приходилось слышать от него подобные сентенции. К ним я уже привык. Но в тот момент они почему-то задели меня за живое.
- Я не собираюсь посвящать себя службе, от которой народу нет никакой пользы! - дерзко отпарировал я.
Дядюшка покраснел. В ответ он хотел сказать мне что-то очень резкое, но, видимо, сдержался.
- Очень жаль, Иффет, - произнёс он сердито. - От сына Халис-паши я не ожидал такого мальчишества.
Я не ответил. В гостиной воцарилось молчание. На этот раз его нарушил неуместным замечанием мой старший братец:
- Не знаю, где ты нахватался столь вредных мыслей. Ей-богу, я начинаю опасаться за твоё будущее.
- Лучше побойся за себя! - огрызнулся я. - Не думай, что народ будет спать до второго пришествия!
Эти слова, которые я произнёс с пылом начинающего уличного оратора, окончательно вывели из себя дядюшку. Он замахал руками:
- Этот парень погубит всю нашу семью! Он насквозь пропитан крамольным духом младотурок![13]
Если бы не тётушка из Карамюрселя, мне, наверное, пришлось бы услышать что-нибудь и похуже. Но она вовремя схватила меня за руку и увела из гостиной. Утащив меня в другую комнату, тётушка принялась увещевать и наставлять, как умела. Она заранее оплакивала мою судьбу, хотя я так и не понял, каких бед она опасалась? Кончилось всё поцелуями и мольбами, чтобы я поберёг себя.
Через несколько минут, придя в себя, я и сам удивился своему поступку. По натуре я отнюдь не задира и не спорщик. Дядюшку своего я давно уже невзлюбил, а братца с детских лет презирал за ограниченность. Я совсем не собирался с ними спорить. Может быть, сам того не замечая, я начал завидовать Музафферу? Или же на меня подействовало чтение запрещённых брошюр в красных переплётах?
Когда мне пришлось оставить школу, я стал запоем читать революционную литературу. Одна из брошюр о социализме, помню, начиналась так: "Юноша! Тебе исполнилось двадцать. Настало время задуматься о будущем, о своем призвании. Из всех существующих профессий я тебе посоветовал бы одну из самых почетных и благородных: стань солдатом Великой армии идейного Освобождения, которая избавит человечество от гнёта и внутреннего рабства". Эти слова я знал наизусть.
После спора с дядюшкой и братом, после других подобных историй родственники стали считать меня бунтовщиком и чуть ли не революционером. Я не огорчался по этому поводу. Наоборот, в душе я даже радовался, стойко переносил невзгоды, как и подобает "солдату Великой армии идейного Освобождения".
Проходили дни, недели, месяцы. Я изменился до неузнаваемости. Присущая мне весёлость исчезла. Здоровый, беззаботный и озорной мальчишка превратился в задумчивого и медлительного юношу с меланхоличным бледным лицом и серыми близорукими глазами, которые без конца моргали, с грустью взирая сквозь стёкла очков на окружающий мир.
Глава одиннадцатая
Это случилось в день похорон моей няни Кямиян-калфы. Я возвращался из Эйюб-султана[14] на пароходе. Никого из нашего дома, кроме меня и старого дядьки-воспитателя, на похоронах не было. Никто не заметил смерти старой няньки, никто не опечалился, будто померла кошка, к которой в доме все привыкли, - и только.
День был ветреный, сырой, но я остался на верхней палубе. Небо заволокли тучи. Казалось, они закрыли весь мир, окутали даже мой мозг. На душе было сумрачно и тоскливо. Никогда не думал, что мамина кормилица, добрая старуха-черкешенка, так много значила для меня. Вот теперь её нет, и в мире сразу стало пусто.
Вдруг перед моими глазами мелькнуло лицо Джеляля. Он пристально смотрел на меня. Я опустил голову.
Джеляль подошёл и сказал:
- Иффет-бей, я хотел бы с вами поговорить. Я встал и, не глядя ему в лицо, ответил:
- Я слушаю вас.
- Я виноват перед вами: в прошлом году я так несправедливо поступил с вами. Всё выяснилось потом: на Веджи-бея, оказалось, донес учитель, который метил на его место. Я хотел писать вам, просить прощения, но, к сожалению, так и не сделал этого. Простите меня!
От волнения я не мог вымолвить ни слова. Мы молча пожали друг другу руки и сели рядом. Вначале разговор никак не клеился.
Узнав, что умерла моя няня, Джеляль искренне опечалился и утешал меня, как мог.
Его слова успокаивали меня, я чувствовал, как беспросветная тоска уступала место спокойной печали, по щекам моим катились слёзы любви и нежности к ушедшему из этого мира дорогому и близкому человеку.
Мы расстались с Джелялем, поклявшись друг другу в вечной дружбе и братстве. На душе у меня полегчало, я не чувствовал себя больше одиноким.
Глава двенадцатая
О провозглашении конституции[15] я узнал в Карамюр-селе. Я лежал больной в имении у тётушки, у меня был сильный кашель. Три дня тётушка меня не отпускала, но на четвёртый, несмотря на болезнь, я удрал и сел на пароход.
Наконец-то мечты мои сбылись. Однако, вопреки ожиданиям, особой радости я не испытывал. Ведь мой отец, брат, другие родственники были придворными. Что станет с ними?
Когда пароход причаливал, по набережной с криками: "Да здравствует свобода!" - шла колонна демонстрантов. Гремел оркестр. Над толпой развевались флаги.
От волнения голова у меня пошла кругом. Осуществилось то, о чём я мечтал в детстве, о чём столько думал в юности. С душевным трепетом и даже тревогой - их испытываешь всегда, когда видишь, как на глазах твоих совершаются чудеса, - я шагнул на улицу и слился с толпой. И я не чувствовал себя больше отдельным существом, я потерял свою индивидуальность, растворился, стал лишь частицей, ничтожной каплей бушующего моря - огромного, несущегося вперёд человеческого потока.
Вместе с колонной я дошёл до перекрестка - и тут вдруг услышал, что среди проклинаемых, ненавистных деспотов и тиранов народ выкрикивает имя Халис-паши.
Невольно я замедлил шаг, вышел из колонны и побрёл назад.
Демонстранты были далеко, и голоса их уже не доносились до меня, но в ушах всё ещё звучали грозные слова: "Будь проклят Халис-паша!".
И тут я, словно бы воочию, увидел отца - паша-батюшка, беспомощный, слабый старик, стоял у книжного шкафа и в порыве откровенности клялся: "Я, Иффет, никогда не был доносчиком!"
***
Я вернулся домой. В особняке царили тревога и уныние. Старшая сестра слегла в постель. Прислуга была в панике. Наконец, после долгих, расспросов, мне удалось узнать, как всё было.
В тот же день, когда провозгласили свободу, муж сестры бежал, по всей вероятности, в Египет. Он предложил бежать и отцу, но тот отказался. За день до моего возвращения около нашего дома появилась группа демонстрантов. Сначала они кричали: "Будь проклят Халис-паша!", потом стали бросать камни, выбили стёкла. Через несколько часов отца арестовали. Где он теперь, никому не известно.
На меня в особняке поглядывали сердито. Старшая сестра высказала вслух то, о чём думали другие.
- Ну что, добился своего?! - упрекнула она меня.
Глава тринадцатая
Прошло два дня. Мы жили будто в карантине. Ни родственники, ни знакомые не решались постучаться в двери нашего дома. На третий день пришёл Махмуд-эфенди и принёс первую весточку об отце: говорили, что пока его держат в городском полицейском управлении, но, наверное, скоро сошлют на остров Митилена[16].