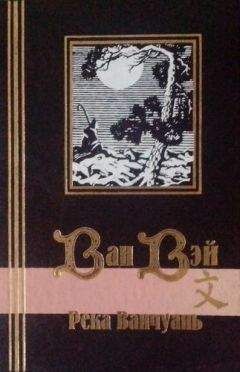Эйно Лейно - Мир сновидений
Из сборника «Миражи» / Kangastuksia(1902)
ВРЕМЯ
В стороне восхода жило племя,
Времени молившееся. Храмы
возвели ему в священной роще,
на обрыве над потоком быстрым.
Издали блистали крыши храмов,
далеко жрецов звенели хоры,
еще дальше разносилась слава
Времени и веры их жестокой.
Время ведь не статуя из камня,
рукотворный образ иль природный,
не идея, не пустые бредни,
Время — это страшный зверь, который
требует труднейшей, высшей жертвы:
сотню юношей прекрасных, смелых
каждый год на повороте лунном.
Стон и плач тогда в стране восточной,
горе тяжкое у всех на сердце.
Но жрецы поют в священной роще,
храмы обходя при лунном свете:
«Велико, сильно, жестоко Время!
Ты могущественней всех на свете,
ты взревешь — и горы раскрошатся,
ты дохнешь — и стены распадутся,
а когда ты по земле проходишь,
никого в живых не остается».
Жрец мне рассказал одну легенду
вечером, когда совсем стемнело,
лишь святой поток в ночи струился
и вода звенела на порогах.
Ветер спал, и роща, и далеко
Гималаев ледники сверкали.
Старика глаза блестели ярко,
когда начал он рассказ свой чудный:
«Наступил черед и месяц жертвы.
Юношей по одному приводят,
скованных, а на глазах повязка.
Отворят врата, опять закроют —
никогда назад им не вернуться.
В жертвенной толпе был парень смелый,
точно пальма стройный, он прекрасен
был лицом, как Будда, — радость взору,
матери опора и надежда,
старцам помощь, девушкам — любимый,
украшение всего народа.
Своего он часа ожидает
молча. Рядом мать вздыхает, плачет.
Миг настал. Его толкают в двери,
он звериный слышит рев, он чует
на своем лице дыханье смерти —
вдруг повязка с глаз его упала:
он узрел, чего никто не видел,
то, что смертным видеть не годится.
Перед ним богиня — злое Время:
вполовину — ящер, весь в чешуях,
вполовину — дева- молодая,
а в глазах у ней огонь, как в пекле,
там кипят на дне пожаром страсти;
вот к нему протягивает руки,
чтобы сжать в чудовищном объятье…
Супротив стоят одно мгновенье
Время и герой, бесстрашный духом:
глядь — колени зверя задрожали,
взор потух и опустились руки;
нежно и легко, как летний вечер,
юношу она поцеловала.
И герой из подземелья вышел,
только ликом был смертельно бледен.
Он покинул мать, сестер, он бродит
по лесам, вершит работу духа,
что в веках не сгинет, не исчезнет.
Зубы Времени его не тронут,
он над смертью одержал победу:
то, о чем другие лишь мечтали,
он, мечты воитель, созидает».
Так служитель храма мне поведал
вечером, когда совсем стемнело.
Молча я сидел, молчал рассказчик.
Гималаев ледники померкли.
Лишь святой поток в ночи струился
и вода бурлила на порогах.
Наконец священника спросил я:
«Неужели с той поры герои
Время никогда не побеждали?»
Ярко старика глаза блеснули,
руки на груди скрестив, он молвил:
«Каждый раз мы Время побеждаем,
когда мысль в душе у человека
зародится, за пределы жизни
вырастая, смертного сильнее.
С той поры, всему на свете чуждый,
людям господин, он все же в рабстве,
потому что он, мечты воитель,
стал подножьем собственной идеи».
«Что, если мечту он запятнает?»
«Будет он повержен, уничтожен,
а мечта в другом найдет жилище,
точно буря путь в сердцах проложит».
Длилась ночь, и хищники проснулись:
леопард из дебрей леса вышел,
тигр — темный ужас караванов,
лев — стрелков ночное наважденье.
Ветви гнулись, и шуршали травы,
дальний рык ночной прорезал воздух.
Вспомнил я про Время — страшный призрак
и спросил, невольно содрогнувшись:
«Неужели Время не погибнет,
никогда народ не будет счастлив?»
Он как будто не слыхал вопроса.
Молча он сидел, молчал я тоже.
В небе загорались звезды — так же
у людей в сердцах мечты горели;
и почудилось мне пенье хора
в шуме вод священного потока:
«Велико, сильно, жестоко Время!
Ты могущественней всех на свете,
ты взревешь — и горы раскрошатся,
ты дохнешь — и стены распадутся,
вечно лишь святой реки теченье,
бесконечно лишь стремленье духа».
AIKA
Asuu aamuruskon mailla kansa,
jonka jumala on Aika. Templi
tehty hälle puistohon on pyhään,
virran vieriväisen kaltahalle.
Loitos loistaa templin kaarikatot,
kauas kuuluu pappein kuorolaulu,
kauemmaksi vielä maine kulkee
Ajan ankarasta uskonnosta.
Aika näät ei ole kivikuva
käsin tehty taikka luonnon muoto,
aate ei, ei tyhjä mielihoure.
Aika hirviö on julma, joka
uhrit parhaat, vaikeimmat vaatii,
sata miestä, inieheväa ja nuorta,
joka vuoden kuussa kääntyvässä.
Siit’ on idän maassa itku, parku,
paino raskas rintaluita painaa.
Mutta näin ne laulaa templin papit
käyden kuutamossa hiljaisessa:
«Suuri, suuri, ankara on Aika!
Maailmoiden mahtaja sa olet,
kun sa mylväiset, niin vuoret murtuu,
kun sa henkäiset, niin hirret hajoo,
vaan kun sinä jalan maahan poljet,
jää ei ykskään eloon elävistä.»
Tarun kertoi mulle templin pappi
kerrao aurinkoisen alas mennen,
yössä yksinänsä koskein kuohun
pyhän virran pyörtehiltä soiden.
Tuuli lepäsi ja lehto. Kaukaa
kimalteli Himalajan huiput.
Väkevästi loisti vanhan silmä,
kun han tarinansa kumman kertoi:
«Kääntyi kuu ja tuli uhrin tunti.
Yksi erällänsä nuoret tuodaan,
silmin sidotuin ja käsin. Uksi
avataan ja jälleen suljetahan.
Hälle ei se enää koskaan aukee.
Uhrien parvessa on poika uljas,
pitkä varreltaan kuin palmu, kaunis
kasvoiltaan kuin Buddha, jalo nahdä.
Ainoo turva on han äidin vanhan,
toivo tietäjien, naisten lempi,
leirin kaunistus ja kansan kaiken.
Vuoroansa vaiti odottaa han,
äiti vierellänsä itkee, huokaa.
Hetki lyö. Han sisään sysätähän,
pedon kiljunnan han kuulee, tuntee
kasvoillansa kalman henkayksen —
silloin, katso: silmäin side laukee,
ja han näkee, mit! ei kenkäan nähnyt
eikä nähdä sopis kuolevaisen.
Ajattaren ankaran han näkee:
puoleks lisko, suomuinen ja suuri,
puoleks nainen punalieska-huuli,
päässä silmät niinkuin pätsi palaa,
pätsin pohjass’ ajan pyyteet kiehuu,
käden kohottaa han vetääksensä
sulhon syleilyynsä kauheahan.
Seisovat he hetken vastatusten,
Ajatar ja urho miekan, mielen:
katso, vaappuu pedon polvet, sammuu
silmä, vaipuu käsi kynnellinen;
keveästi niinkuin kesäilta
sulhon huulille han suukon painaa.
Mutta kammiosta urho astuu
kalpeana niinkuin kuolo, kulkee
metsiin, jättää äidin, siskot, miettii,
tekee hengen toitä, jotk’ ei katoo,
vaikka katoaisi kansa kaikki.
Hänehen ei Ajan hammas pysty,
voittanut han ompi kuolon vallan,
silla han on unelmainsa urho
ja han täyttää, mita monet tuumii.»
Näin se kertoi kerran templin pappi
mulle aurinkoisen alas mennen.
Vaiti istuin, vaiti kertojakin.
Himmenivät Himalajan huiput.
Yössä yksinänsä koskein kuohu
pyhän virran pyortehiltä kuului.
Silloin sanat sattui mieleheni:
«Eikö sitten enää milloinkana
miestä ollut Ajan voittajata?»
Väkevästi vanhan silmä loisti,
kädet rinnoillaan lian risti, lausui:
«Aika voitetahan joka kerta,
jolloin aatos miehen mieless’ syttyy,
aatos miehen mieltä ankarampi,
kasvavainen yh kuolevaisen.
Siitä asti on hän outo täällä,
herra muille, oija itsellensä,
sillä hän on unelmainsa urho,
oman aattehensa astinlauta.»
«Entä jos hän aattehensa tahraa?»
«Silloin aate hänet alas lyöpi,
ottaa asuntonsa toiseen, jatkaa
tietään niinkuin myrsky merta käyden.»
Hetket kului. Pedot öiset heräs,
lähti leopardi piilostansa,
tiikeri, tuo karavaanein kauhu,
leijonakin, metsästäjän mielle,
oksat risahteli, risut taittui,
kaukaa karjunta yön ilman halkas.
Ja ma mnistin Ajattaren haamun
ja ma kysyin äänin vavahtavin:
«Eikö koskaan Ajatar tuo kuole?
Eikö koskaan koita kansain onni?»
Liene kuullut ei hän kysymystä.
Vaiti istui hän ja vaiti minä.
Tähdet syttyi taivahalle, syttyi
iäis-aatteet ihmissydämissä;
ja ma kuulin koskein kuorolaulun
pyhän virran pyörtehiltä soivan:
«Suuri, suuri, ankara on Aika,
maailmoiden mahtaja sa olet,
kun sa mylväiset, niin vuoret murtuu,
kun sa henkäiset, niin hirret hajoo,
pysyväinen vain on pyhä virta,
iäinen vain ihmishengen kaipuu.»
МЕСТЬ КИММО
Киммо вдоль пологой сопки
в темноте бежит на лыжах,
как горят на небе звезды,
так в груди тоска пылает,
когда он в чащобе ночый
напевает, одинокий:
«Резвую растил я дочку,
нежную, как олененок,
раз одна осталась в коте[1] —
и пришел чужак, бродяга,
и лежал на шкурах с нею.
Как его однажды встречу —
содрогнется лес дремучий!»
Киммо вдоль пологой сопки
в темноте бежит на лыжах.
На вершине мрачной сопки
пляшут девы-лесовицы,
за снежинками вдогонку,
космы по ветру развеяв;
мимо волк трусцой проскачет,
небеса сверкнут сияньем,
да вздохнут снега глубоко —
и опять все тихо, тихо.
«Не иначе — быть метели», —
думал Киммо; торопливей
палки лыжные мелькали,
да лыжня с горы бежала.
Вдруг он слышит из-под ели
слабый голос, еле слышный:
«Ой ты, лыжник, кто бы ни был,
помоги мне, бедолаге!
Ехал я на оленихе —
постромки она порвала,
опрокинув мои санки,
убежала в лес дремучий.
Не найти теперь дороги,
не уйти из рук мороза!»
Киммо всем нутром горящим
чужака-бродягу чует:
вот он, странник, вон и санки,
все следы сюда приводят!
За ножом рука рванулась —
совесть не велйт ударить.
Есть закон в суровой Лаппи[2]:
помоги в пути любому!
«Становись на лыжи сзади, —
говорит, — свезу в деревню,
в жаркой сауне отпарю».
Молча по лесу скользили:
за спиною Киммо путник,
в отдаленьи — сопка Хийси[3].
На вершине мрачной сопки
пляшут девы-лесовнцы,
космы по ветру развеяв,
вслед за вихрем завывают:
«У-у-у тебе, герой бессильный,
что мечтал и пел о мести!
Наконец врага ты встретил:
хорошо ему, обглодку, —
безопасно на запятках!»
Вот к порогам путь приводит,
над водой — мостки; тут Киммо
молвит: «Встань передо мною —
будет нам куда сподручней!»
Поменялися местами
и чужак в одно мгновенье
полетел в поток кипящий,
крик пропал в ночи морозной,
и опять все тихо, тихо.
Киммо смотрит, холодеет:
лесовицы, децы Хийси,
уж летят с вершины сопки,
налетают, словно вьюга,
точно зимний вихорь воют,
с каждой ветки, с каждой кочки,
изо всех земных расщелин
оплетают волосами
совершившего убийство,
обнимая и целуя,
жизни теплой пьют дыханье,
умыкают его к Хийси,
под сугробами хоронят.
Воет волк, бурлят пороги…
Утром солнце засверкало.
KIMMON KOSTO