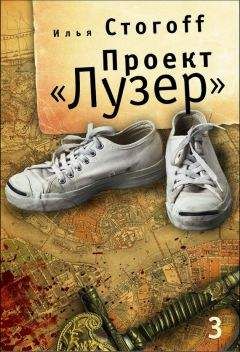Владислав Реймонт - Земля обетованная
«И я был таким». И его мысли унеслись в те далекие времена, но он не позволил воспоминаниям вонзить терзающие когти в его душу, ироническая усмешка блуждала на его устах, а в глазах были холод и трезвость.
«Все это прошло, прошло!» — думал он с каким-то странным ощущением пустоты, словно ему было жаль тех лет, тех невозвратных иллюзий, благородных порывов, осмеянных жизнью; но это быстро минуло, он снова стал самим собою, стал тем, чем был, — начальником печатного цеха Германа Бухольца, химиком, человеком холодным, разумным, равнодушным, готовым на все, настоящим «лодзерменшем», как назвал его Мориц.
И когда он в таком настроении проходил по аппретуре, дорогу ему преградил один из рабочих.
— Чего вам? — быстро спросил он, не останавливаясь.
— А наш мастер пан Пуфке сказал, что с первого апреля у нас будет работать на пятнадцать человек меньше.
— Верно. Поставят новые машины, которым не нужно для обслуги столько народу, сколько старым.
Рабочий, держа шапку в руке, не знал, что сказать, и не решался возразить, но, подбадриваемый взглядами товарищей, стоявших у машин и у штабелей ткани, все же спросил, идя вслед за Боровецким:
— А нам-то что делать?
Поищите себе работу где-нибудь еще. Останутся только те, кто у нас дольше работает.
— Так мы тоже работаем уже по три года.
— Чем же я могу вам помочь, если вы машине не нужны, она сама все делает. Впрочем, до первого, может, что-нибудь еще изменится, если мы будем расширять белильню, — спокойно ответил Боровецкий и вошел в лифт, который сразу же провалился с ним в недра стены.
Рабочие молча переглянулись, тревога сквозила в их глазах, страх перед завтрашним днем без работы, перед нуждой.
— Подлые машины. Суки, чтоб их разорвало! — прошептал рабочий и с ненавистью пнул ногою какую-то машину.
— Товар на пол падает! — крикнул мастер.
Парень быстро надел картуз, слегка нагнулся и с безразличием автомата принялся подхватывать выползавшую из сушилки красную бумазею.
III
Ресторан гостиницы «Виктория» был полон.
Просторные залы с темными стенами и низкими желтыми потолками в лепнине, имитирующей дерево, встречали посетителя громким гулом голосов.
Ежеминутно звенели на входных дверях латунные прутья, предохранявшие стекла, ежеминутно кто-нибудь входил и исчезал в табачном дыму и в густой толпе; в буфетном зале судорожно мигали электрические лампочки, а от горевших тут же газовых светильников падал тусклый свет на посетителей, сгрудившихся вокруг столиков, и на белые скатерти.
— Keiner, bitte, zahlen![6].
— Пива!
— Keiner, Bier![7] — слышались со всех сторон возгласы и глухой стук кружек.
Кельнеры в засаленных фартуках, с салфетками, напоминающими тряпки, сновали по залу во всех направлениях, только мелькали над головами клиентов их нечистые манишки.
Народ беспрестанно прибывал, и нарастающими волнами усиливался гул выкриков:
— «Лодзер цайтунг»! «Курьер цодзенны»! — бегая между столиками, вопили мальчишки.
— А ну, паренек, дай-ка мне «Лодзер»! — крикнул Мориц, сидевший в буфетной у окна, в обществе нескольких актеров, вечно торчавших в кабачке.
— Послушайте, что сделал вчера наш чудак, то есть директор, — сказал один из них.
— Скажи «архичудак», — хрипло вставил сгорбленный старый актер.
— Дурень! — ответил ему первый таинственным шепотом на ухо. — Так вот, наш архичудак вчера во втором антракте пошел за кулисы и, когда там появилась Нюся, говорит ей: «Вы так великолепно играли, что, как только цветы немного подешевеют, я куплю вам букет, хотя бы и за пять рублей!»
— Что он сказал? — переспросил старый актер, наклоняясь к уху соседа.
— Чтобы вы собаку в нос поцеловали.
Все разразились хохотом.
— Пан Вельт, пан Мориц, вы разве не придерживаетесь системы «цвай-коньяк»?
— Пан Бум-Бум, я придерживаюсь той системы, чтобы выставить вас за дверь.
— А я хотел для вас заказать…
— Заказывайте лучше от своего имени.
— Ну что ж, коль вы от меня отрекаетесь!
— Панна Аня, коньячку! — вскричал Мориц, поправляя пенсне и ударяя ладонью правой руки по сжатой в кулак левой.
— Ваш предок, пан Мориц, был лучше воспитан, — снова начал Бум-Бум, стоя посреди комнаты с куском колбасы на вилке.
— Я-то о вашем не могу этого сказать.
— Warum?[8] — спросил кто-то за соседним столиком.
— Потому что у него вообще предков не было.
— Нет, не поэтому, а потому, что мой со своими арендаторами не церемонился. Вельт это знает по семейным преданиям.
— Давно протухшая острота, уценка на пятьдесят процентов. Господа, продаем Бум-Бума с публичных торгов. Кто сколько дает? — со злостью выкрикнул Мориц.
— Что он говорит? — опять спросил шепотом старый актер, кивком подзывая кельнера.
— Что ты дурак! — в том же тоне отвечал сосед.
— Кто сколько дает за Бум-Бума; Господа, продается Бум-Бум! Он стар, он безобразен, он глуп, он изношен, зато продается дешево! — выкрикнул Мориц и вдруг умолк, потому что Бум-Бум остановился перед ним, глядя ему прямо в лицо, и коротко бросил:
— Пархатый! Панна Аня, коньячку!
Мориц стал громко стучать кружкой и хохотать, но никто его не поддержал.
Бум-Бум выпил и, пригнув квадратное лицо цвета топленого сала с кровью, тараща сквозь пенсне с очень широкой тесьмой выпуклые голубые глаза, над которыми лоб с морщинистой, помятой, шероховатой кожей был окаймлен редкими липкими волосами, принялся расхаживать по залам кабачка, волоча дрожащие, как у больного сухоткой, ноги старого развратника; он приставал то к одной кучке, то к другой, произносил остроты, от которых сам смеялся громче всех, или же разносил подслушанные у столиков и, с наслаждением их повторяя, обеими руками поправлял пенсне, здоровался почти со всеми входившими, и то и дело у буфета раздавался его хриплый, дребезжащий голос:
— Панна Аня, коньячку! — и хлопок ладонью по кулаку.
Мориц пробежал глазами «Цайтунг», нетерпеливо поглядывая на дверь. Он ждал Боровецкого. Наконец, увидев в соседнем зале знакомое лицо, пошел туда.
— Леон! Ты когда приехал?
— Сегодня утром.
— Как удался сезон? — спросил Мориц, садясь рядом на зеленый диванчик.
— Великолепно! — Леон положил ноги на стул и расстегнул ворот сорочки.
— Сегодня как раз думал о тебе, а вчера даже с Боровецким говорили.
— Боровецкий? Тот, что у Бухольца служит?
— Он самый.
— Все еще печатает узоры на байке? Я слышал, что он хочет сам открыть дело?
— Потому-то мы и говорили о тебе.
— И что? Шерсть?
— Хлопок!
— Один хлопок?
— Что можно сегодня сказать?
— Деньги есть?
— Будут, а пока есть нечто большее — кредит…
— В компании с тобой?
— И с Баумом. Макса знаешь?
— Эге! В этом векселе есть ошибка, один жирант ненадежен! — И после паузы прибавил: — Боровецкий!
— Почему?
— Полячишка! — с ноткой презрения бросил Леон и почти растянулся на диванчике и на стуле.
Мориц весело засмеялся.
— Да ты его совершенно не знаешь. О нем в Лодзи еще будут говорить. Я в него верю, как в себя самого, уж он-то зашибет большие деньги.
— А Баум? Он какой?
— Баум — это вол, ему надо дать выспаться и выговориться, а потом задать работу, и он будет трудиться как вол, а впрочем, он вовсе не глуп. Ты мог бы нам очень помочь и сам бы хорошо заработал. Нам уже делал предложение Кронгольд.
— Ну и идите к Кронгольду, он малый не промах, знаком со всеми лавочниками, которые покупают у него мерного товару на сто рублей в год, да, это настоящий коммивояжер, то он в Кутно, то в Скерневицах. Делайте дела с ним, я не напрашиваюсь! У меня есть что продавать, вот тут у меня письмо Бухольца, он намерен поручить мне продажу своего товара во всех восточных губерниях, а какие условия предлагает! — И Леон стал лихорадочно расстегивать сюртук и искать письмо по всем карманам.
— Я об этом знаю, не ищи. Боровецкий вчера сказал мне, это он порекомендовал тебя Бухольцу.
— Боровецкий? Нет, в самом деле? Почему?
— Потому что он умница и думает о будущем.
— И бесплатно! Да он же на таком деле мог бы здорово заработать. Я сам дал бы двадцать тысяч наличными, честное слово. Какая ему от этого прибыль? Вдобавок мы почти не знакомы.
— Какая ему прибыль, он сам тебе скажет, а я могу только сказать, что он денег не возьмет.
— Шляхтич! — с оттенком насмешливого сострадания прошептал Леон и плюнул на пол.
— Да нет, просто он умнее самых умных коммивояжеров и агентов во всех восточных губерниях, — ответил Мориц, постукивая ножом по кружке. — Много ты продал?
— На несколько десятков тысяч, больше десяти тысяч наличными, остальное под надежные векселя, сроком всего на четыре месяца и с жиро Сафонова! Шелка, — и он удовлетворенно хлопнул Морица по колену. — Есть и для тебя заказ. Видишь, что значит дружба?