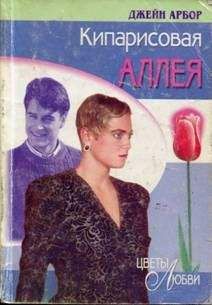Аксель Мунте - Легенда о Сан-Микеле
Но действительно ли моя миссия кончалась тогда, когда начиналась ее миссия? Был ли я только пассивным наблюдателем последнего, неравного боя, беспомощно и бесчувственно следящим за ее губительной работой? Должен ли я был отворачиваться от глаз, которые молили меня о помощи, когда язык давно уже онемел? Я был побежден, но не обезоружен, в моих руках еще оставалась могучая разящая сила. У нее была чаша вечного сна, но у меня была своя чаша, доверенная мне благостной Матерью Природой. В тех случаях, когда она слишком медленно отпускала свой напиток, разве не должен я был дать свой, могущий превратить страдания в покой, пытку в сон? Не было ли моим долгом облегчить смерть тем, кому я не мог сохранить жизнь?
Старая монахиня сказала мне, что я совершаю страшный грех, — что всемогущий бог в своей неизреченной мудрости постановил, чтобы было так, что чем больше страданий он посылает в смертный час, тем милостивее он будет в день Страшного суда. Даже кроткая сестра Филомена укоризненно смотрела на меня, когда я, единственный среди моих коллег, подходил к постели со шприцем морфия, после того как от нее удалился священник со святыми дарами.
Тогда во всех парижских больницах еще мелькали их большие белые чепцы чепцы добрых самоотверженных сестер монастыря Сен-Венсен де Поль. Распятие еще висело, на стене каждой палаты, а священник совершал по утрам богослужение у маленького алтаря в палате Святой Клары. Настоятельница, «мать моя», как все ее навывали, еще обходила по вечерам больных, после того как колокола отзвонили «Аве Мария».
Тогда еще не было жарких споров об изъятии больниц из ведения религиозных учреждений и не прозвучало требование: «Вон священников, долой распятия, гнать монахинь!» Увы! Вскоре они были изгнаны, о чем я только пожалел. Без сомнения, у монахинь были свои недостатки. Четки были им привычнее щеточек для ногтей, и пальцы они погружали в святую воду, а не в карболку — всемогущую панацею наших хирургических палат тех времен. Но их мысли были возвышенны, а сердца чисты, и они Отдавали свою жизнь работе, не прося взамен ничего, кроме права молиться за своих подопечных.
Даже их злейшие враги не отрицали их самоотверженности и неиссякаемого терпения. Тогда говорили, что лица монахинь, ухаживающих за больными, всегда угрюмы, что думают они больше о спасении души, а не тела, и, на их губах слова смирения более часты, чем слова надежды. Тот, кто верил в это, ошибался. Наоборот, монахини, и старые и молодые, все без исключения были неизменно бодры и радостны, по-детски веселы и шутливы. В них. не было никакой нетерпимости. Верующие и неверующие — для них были все одинаковы. Последним они даже старались помогать больше, потому что жалели их, и никогда не обижались на их ругательства и кощунства. Со мной они все держались приветливо и ласково. Они знали, что я не принадлежу к их вероисповеданию, не хожу к исповеди и не осеняю себя крестным знамением, проходя мимо маленького алтаря. Сначала мать-настоятельница попыталась было обратить меня в веру, которая научила ее отдать жизнь другим, но вскоре отказалась от этой мысли, сострадательно покачивая старой головой.
С братом Антонием, который приходил по воскресеньям в больницу играть на органе в маленькой часовне, я был особенно дружен. В те дни это для меня была единственная возможность слушать музыку, и я никогда ее не упускал. Ведь я так люблю музыку! Хотя я не видел сестер, поющих за алтарем, я узнавал кристально чистый голос сестры Филомены. Накануне рождества брат Антоний сильно простудился, и в палате Святой Клары от койки к койке шепотом передавали, что настоятельница, после долгого совещания со старым священником, разрешила сесть за орган мне и этим спасла положение.
В те дни я не слышал другой музыки, если не считать тех двух дней в неделю, когда бедный старый дон Гаэтано играл для меня на своей шарманке под моим балконом в «Отель де л'Авенир». «Мизерере» из «Трубадура» было его коронным номером, и этот грустный старинный мотив подходил и к нему, и к его полузамерзшей обезьянке, которая сидела на шарманке в красной гарибальдийской курточке. Это был и подходящий аккомпанемент к моим мыслям, когда я сидел за книгами, не чувствуя в себе мужества прожить еще один день, когда все казалось мне мрачным и безнадежным, а Капри на выцветшей фотографии — бесконечно далеким. Тогда я бросался на кровать, закрывал ноющие глаза, и вскоре Сант Антонио начинал творить новое чудо. Я уносился от всех своих забот к чарующему острову моей мечты. Джоконда, улыбаясь, подавала мне стакан вина дона Дпонизио, и кровь мощной струей вновь приливала к моему усталому мозгу. Мир был прекрасен, а я был молод, готов к бою, уверен в победе. Мастро Винченцо, трудясь в своем винограднике, приветливо махал мне рукой, когда я поднимался по тропинке за его садом к часовне. Некоторое время я сидел на площадке и завороженно смотрел на прекрасный, лежащий у моих ног остров и размышлял о том, каким образом мне удастся поднять моего сфинкса из красного гранита на вершину этой скалы. Нелегкое дело! Но я справлюсь с ним — и совсем один!
«Addio, bella Gioconda! Addio, e presto ritorno!» Да, конечно, я вернусь очень скоро — в моем будущем сне!
Наступал следующий день и пристально смотрел в окно на спящего. Я открывал глаза, вскакивал на ноги, с улыбкой приветствовал его, хватал книгу и садился за стол. Потом пришла весна и бросила на мой балкон первый цветок с каштанов, зеленеющих на бульваре. Это был знак. Я записался на экзамены и покинул «Отель дв л'Авенир» со столь трудно завоеванным дипломом в кармане никогда еще во Франции не было такого молодого дипломированного врача.
Глава III. Авеню Вилье
Авеню Вилье. «Д-р Мунте. Часы приема от 2-х до 3-х». День и ночь звонил колокольчик у двери — настойчивые письма, срочные вызовы. Телефон, это смертоносное оружие в руках ничем не занятых женщин, еще не начал свое невыносимое наступление на каждый час, вырванный для отдыха. Приемная быстро наполнялась всевозможными пациентами, чаще всего с нервными расстройствами, причем прекрасный пол преобладал. Многие были больны, тяжело больны. Я внимательно выслушивал все, что они говорили, и тщательно их обследовал, так как верил, что им я могу помочь. О таких больных я не хочу писать здесь. Быть может, наступит день, когда я расскажу и о них. Многие были совсем здоровы и не заболели бы, если бы не обратились ко мне. Многие только думали, что больны. Их истории всегда бывали самыми длинными — они повествовали о своих бабушках, тетках и свекровях или же вынимали из кармана бумажку и начинали читать перечень симптомов и жалоб. Le malade au petit papier[43],- как говорил Шарко. Мне это было внове, так как у меня не было никакого опыта, кроме больничного, а там для таких глупостей нет времени, и я наделал много ошибок. Потом, когда я лучше узнал людей, я научился обходиться с такими пациентами более правильно, но все-таки мы не очень ладили. Они чрезвычайно расстраивались, услышав от меня, что они хорошо выглядят и цвет лица у лих прекрасный, но облегченно вздыхали, когда я добавлял, что их язык мне не особенно нравится — как обычно и бывало. В таких случаях мой диагноз был: обжорство — слишком много сладкого теста днем и тяжелые ужины вечером. Вероятно, это был самый правильный диагноз, который я в те дни ставил, но он не имел успеха и никому не нравился. Никто не хотел слышать ничего подобного. Всех прельщал аппендицит. В те дни среди богатых людей, искавших для себя приятной болезни, был большой спрос именно на аппендицит. Всех нервных дам томил аппендицит — если не в брюшной полости, то в мыслях, и он приносил им большую пользу, как и лечащим их врачам. Поэтому я постепенно стал знатоком аппендицитов и часто пользовал от него с переменным успехом. Когда же прошел слух, что американские хирурги начали кампанию за удаление всех вообще аппендиксов в Соединенных Штатах, число больных аппендицитом среди моих пациентов начало угрожающе сокращаться. Замешательство. «Вырезать аппендикс! Мой аппендикс! — восклицали светские дамы, точно матери, которых грозят разлучить с ребенком. — Что я буду без него делать?!» «Вырезать их аппендиксы, мои аппендиксы! — говорил врач, уныло проглядывая список своих пациентов. — Какой вздор! Да их аппендиксы совершенно здоровы! Мне ли этого не знать, когда я осматриваю их каждую неделю. Нет, я решительно против!»
Вскоре стало ясно, что аппендицит доживает последние дни. Надо было найти другой недуг, который удовлетворил бы общий спрос. Специалисты не ударили в грязь лицом, и на рынок была выброшена новая болезнь, отчеканили новое слово, подлинную золотую монету — колит! Это был милейший недуг — ему не грозил нож хирурга, возникал он по требованию и отвечал любому вкусу. Никто не знал, когда начинается эта болезнь, никто не знал, когда она кончается. Мне было известно, что кое-кто из моих дальновидных коллег уже с большим успехом применяет колит к своим пациентам, но мне все не представлялось удобного случая.