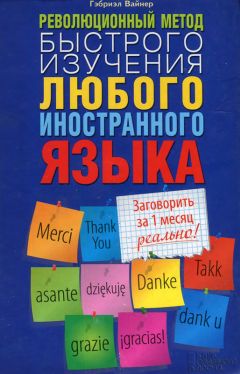Лао Шэ - Сказители
У берега, тихо покачиваясь на воде, стояло совершенно черное деревянное судно. На его высоких мачтах трепетали от ветра красные флажки. Голые по пояс, босые, с белыми платками на головах, люди бегали взад и вперед по сходням, перетаскивая на себе самые разные грузы.
По реке сновали убогие суденышки и паромы, всевозможные пароходы и деревянные корабли. Крохотные лодчонки усыпали водную рябь, словно опавшие листья, повсюду разнесенные ветром. Лодки были везде. Плывшие по воде и стоявшие на приколе, большие и маленькие. Здесь были как суда старых образцов, так и пароходы новых моделей. Некоторые шли прямо, по одной линии, другие, используя встречный ветер, виляли из стороны в сторону. Даже это огромное речное пространство при таком скоплении водного транспорта казалось узким и тесным.
Вдоль берега стояло несколько навесов из бамбука и тростника. Беженцы, обгоняя друг друга, бросились к ним, рассчитывая купить что-нибудь поесть. Под навесами стояли огромные тазы с рисом, от которого шел пар, лежали большие куски свежей свинины, висели толстенные колбасы, высились груды мандаринов. Люди, окружив лотки, покупали съестное и болтали о всякой всячине, восхищаясь огромными белыми свиньями и каштановыми сычуаньскими лошадками, которые были, пожалуй, побольше обычных осликов.
Стояла невыносимая жара. Ни ветерка. Река напоминала гигантский котел, над которым клубился пар. Люди, насквозь мокрые от пота, тяжело дышали и нервничали. Гребцы, пассажиры в лодках, носильщики и их клиенты, покупатели и продавцы – все были не прочь поскандалить.
Палящие лучи солнца, отражаясь от поверхности воды, слепили глаза. Желтый песок и огромные гладкие камни блестели на солнце, заставляя щуриться от яркого света. У людей уже начинала гореть опаленная солнцем кожа. Город возвышался над рекой на многие десятки Метров. Он был окутан серовато-белым горячим туманом, Вт которого кружилась голова. Внизу – сплошная вода, вверху – сплошные скалы. Между горами и водой, отделенными друг от друга сотнями каменных ступеней, – полосы яркого, бьющего в глаза света. Вода клокотала, словно в огромном самоваре, а город над ней напоминал гигантскую печь.
Баоцин, как ребенка, прижал к груди трехструнку, Дафэн осторожно, с почтением, держала перед собой барабан, как обычно держат изображение бодисаттвы, Баоцин не спешил сходить на берег. Он не собирался толкаться в этой массе людей. Годы скитаний приучили его к необходимости экономить силы. В сторонке, обняв трехструнку, он спокойно ждал, когда пройдут другие. Несколько часов назад он приветливо распрощался со своими друзьями по пароходу, в том числе и с ребятишками.
Судя по панике, охватившей пассажиров, можно было предположить, что пароход попал в катастрофу, а не просто причалил к берегу. Толкая друг друга, каждый пытался сойти первым. Все злились, выходили из себя, кричали и ругались. Толпу качало из стороны в сторону.
Какая-то женщина так толкнула ребенка, что тот упал в воду; у кого-то слетела в реку туфля на высоком каблуке.
Те, кто забыл запереть замки чемоданов, добирались до берега уже без их содержимого, которое оказывалось в воде. Карманные воры трудились в поте лица. Один из них, схватив чей-то зонтик, пустился наутек. Наименее совестливые, пользуясь давкой, прижимались к женщинам.
Баоцин больше всего опасался, как бы не затолкали Сюлянь, и время от времени сдерживал ее: «Сюлянь, не торопись, не торопись!»
Сюлянь, еще не став зрелой девушкой, тем не менее повсюду привлекала к себе внимание. Возможно, это происходило оттого, что она была всего лишь певичкой и люди считали, что из этого можно кое-что извлечь. А может быть, потому, что девственная прелесть, светившаяся на ее лице, так хорошо сочеталась со скромностью и трогательностью ее речи и движений.
Маленькое круглое личико Сюлянь отличалось изящными и правильными чертами. На нем всегда, даже сквозь пудру проступал румянец. Черные глаза словно излучали свет. Она не блистала особой красотой, однако обладала какой-то неуловимой естественной притягательностью, при первом же взгляде привлекавшей к ней внимание. Маленький носик был чуть вздернут, отчего ноздри как бы слегка смотрели вверх. Нижняя часть лица от этого не выигрывала и придавала ей выражение капризного ребенка. Когда Сюлянь поднимала маленький подбородок и задирала носик, казалось, что все на свете ей нипочем. Ее тонкие губы можно было заметить лишь тогда, когда они были накрашены, а ослепительно белые зубы, не везде, правда, ровные, можно было считать отличительным признаком ее внешности.
Густые черные блестящие волосы она заплетала в две маленькие косички, перевязывала яркими цветными лентами и оставляла их на груди или закидывала назад.
Сюлянь еще предстояло подрасти. В туфлях из черного шелка с вышитыми на них белыми цветами она казалась еще меньше и ниже ростом. Ходила она плавно и легко, даже слишком легко, отчего походка казалась немного неуверенной. Ее лицо, косички и фигура ничем особенно не выделялись среди обыкновенных четырнадцатилетних девочек. Разве что в походке порой проглядывала особая пластичность, по которой можно было определить, что она актриса. Вот и сейчас, несмотря на используемые для выступлений вышитые туфли, она была одета в простой китайский халат темно-синего цвета.
Стояла нестерпимая жара. Ее косы были закинуты назад и даже не прихвачены бантами. Пот смыл с лица пудру, обнажив нежную кожу цвета слоновой кости. Щеки раскраснелись от жары и были ярче, чем румяна.
Огромные черные глаза с жадным любопытством разглядывали берег: зеленые мандарины, белый вареный рис, маленьких лошадок каштанового цвета и навесы из бамбука и тростника. Все эти вещи были ей в диковинку, интересны и трогательны. Так хотелось спрыгнуть на берег, купить мандаринов, поездить верхом на странного цвета лошадках! Чунцин казался ей сказочным городом. Кто бы мог подумать, что здесь лошадки меньше осликов, а мандарины продаются совершенно зелеными!
Некоторые семьи уже отдыхали под навесами. Ее внимание привлек на время пухленький голый карапуз. Она забыла о жаре, забыла все свои мелкие неприятности, хотелось лишь скорее на берег, чтобы не торчать больше на пароходе.
Сюлянь знала, что отец внимательно наблюдает за ней. Как она ни была взволнована, а все же не осмеливалась сойти с парохода одна. Она была еще подростком, да к тому же исполнительницей сказов. Ее должен был оберегать отец, вот и оставалось тихонько стоять да вовсю глазеть на зеленые мандарины и жирных белых свиней.
Тюфяк сел. Ему вовсе не хотелось этого делать, но если бы он не сел, то люди, оттиравшие друг друга локтями, могли бы наступить ему на лицо. Он продолжал стонать: от мелькавшей перед глазами беснующейся толпы у него кружилась голова.
Внешне он очень походил на брата, только был чуть выше и худощавее. Из-за худобы его-глаза и нос казались особенно большими. Гладкие длинные волосы были зачесаны назад, на манер недавно побывавшего в Париже художника.
Тюфяк тоже умел исполнять песенные сказы под аккомпанемент барабана и трехструнки, причем пел даже лучше брата. Однако он относился с пренебрежением к такой малоуважаемой профессии, как исполнение сказов под барабан. И на трехструнке он умел играть. Только не хотел. Аккомпанировать своему брату и племяннице, находиться где-то на вторых ролях было для него еще более унизительным. Он ничем не занимался и фактически находился на иждивении Баоцина. Такое обстоятельство, по его словам, ничуть не ущемляло его достоинства. Он был умен и, если бы захотел, мог бы стать известным актером, но не собирался тратить на это свои силы! Он всегда с презрением относился к деньгам. А тут еще зарабатывать их игрой и пением!
С точки зрения общечеловеческой морали Баоцин не мог не содержать Тюфяка. Все же оба рождены одной матерью, и уже одно это обстоятельство заставляло его нести на себе эту ношу. Однако Тюфяк худо ли, бедно, а некоторую пользу семье все же приносил. Лишь он один мог справиться с женой Баоцина. Характер ее напоминал летний дождик при облачном небе: проявлялся так же внезапно, как и исчезал. Если, бывало, Баоцин не мог с ней совладать, то старший брат всегда знал, как ее утихомирить. Как только она показывала свой норов, Тюфяк немедленно делал то же самое, А когда пререкаются двое, всегда кто-нибудь да уступит. Стоило ей первой засмеяться, как тут же смеялся и Тюфяк. Посмеются оба, и в доме воцарится покой. Тюфяк всегда составлял ей компанию в карты, пил с ней вино.