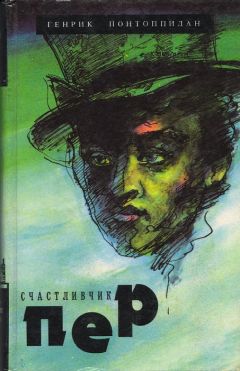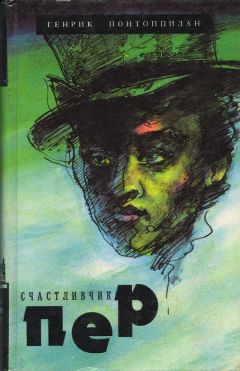Хенрик Понтоппидан - Счастливчик Пер
Но хватились они слишком поздно.
Однажды, глубокой осенью, в кабинете пастора Сидениуса стоял один из жителей городка. Он пришёл заказывать крестины на воскресенье. В скупых словах посетитель изложил свою докуку и взялся было за ручку двери, но вдруг, после недолгих размышлений, опять повернулся лицом к пастору и сказал довольно дерзким тоном:
— А заодно я хотел бы попросить вас, господин пастор, оказать мне другую услугу и попридержать своего сынка подальше от моего сада. Он да ещё несколько сорванцов не дают покоя моим яблоням, а мне это, честно говоря, не по нутру.
Когда посетитель заговорил, пастор Сидениус, сдвинув на лоб большие синие очки и низко склонившись над письменным столом, вносил в книгу записей имя отца новорожденного, но при последних словах он медленно поднял голову, спустил очки на нос и с возмущением спросил:
— О чём это вы толкуете?.. Вы осмеливаетесь утверждать, будто мой сын…
— Вот именно, осмеливаюсь, — с готовностью подхватил посетитель и даже вызывающе подбоченился, довольный, что может насолить самоуверенному пастору. — Сын господина пастора по имени Петер-Андреас — он за атамана у негодяев — лазит по чужим садам. А права вроде для всех одинаковы, будь ты хоть пасторов сын, хоть кто. Не пришлось бы мне обратиться в полицию, тогда мальчишку могут публично наказать в ратуше. А это вряд ли желательно, ежели учесть, какое положение занимает господин пастор в нашем городе.
Пастор Сидениус неверным движением отложил перо и выпрямился во весь свой рост.
— Мой сын… — И он задрожал всем телом.
Пока в кабинете пастора разыгрывалась эта сцена, маленький виновник переполоха сидел на уроке и за высокой стопкой книг прятал от учителей и одноклассников нечистую совесть. По дороге в школу он встретил сердитого горожанина, и тот прямо через всю улицу крикнул ему:
— Ну, теперь берегись! Сейчас я пойду к твоему отцу и выложу ему всё как есть.
До сих пор Петер-Андреас не слишком боялся отцовского гнева, но сегодня он и сам чувствовал, что совершил недостойный поступок, и чем ближе время подвигалось к концу занятий, тем больше ему становилось не по себе.
С горящими ушами прошмыгнул он в калитку, мимо передней, где у окна обычно поджидал его отец, когда он что-нибудь натворит. Но окно было плотно закрыто. Во дворе, на дорожке, ведущей в кухню, он тоже не повстречал отца и облегчённо вздохнул. «Дядька просто хотел припугнуть меня», — подумал он и заглянул на кухню, чтобы узнать, как дела с обедом. В порыве неожиданной смелости он даже решил зайти в спальню и поздороваться с матерью. Но в дверях с разбегу остановился — такой мрачный взгляд встретил его. Суровым, словно чужим голосом мать приказала:
— Иди к себе, я не хочу тебя видеть.
Мальчик помешкал: он понял по глазам матери, что она плакала.
— Разве ты не слышал? Иди к себе и жди, пока тебя не позовут.
Сын молча повиновался.
Немного спустя в комнату заглянула старая одноглазая нянька и позвала его к столу. Все уже сидели на своих местах вдоль длинного стола, переговаривались и словно чего-то ждали. Когда он показался в дверях, разговоры разом смолкли. По внезапной тишине и по непроницаемому выражению лиц он догадался, что здесь тоже всё известно. С напускным спокойствием плюхнулся он на свой стул и сунул руки в карманы, но никто даже не взглянул в его сторону. Только с другого конца стола на него устремилась пара глаз — то были большие, светлые, задумчивые глаза сестры Сигне под тёмными сросшимися бровями.
Тут в соседней комнате послышались шаги. Петер вздрогнул, когда отец показался в дверях. Против обыкновения, тот не поздоровался с детьми, молча сел на своё место, склонил голову и сложил руки, как для молитвы.
Однако вместо молитвы он обратился к детям с кратким словом. У него есть что-то на сердце (так начал он, и глаза его сомкнулись за тёмными стёклами), серьёзная, очень серьёзная забота, и о ней-то он и хотел потолковать со своими дорогими детьми, прежде чем приступить к трапезе. И тут отец поведал детям о преступлении их брата, про которое многие уже знали от матери.
— То, что случилось, нельзя ни замалчивать, ни оправдывать, продолжал отец. — Есть божья воля в том, чтобы всё, порождённое мраком, рано или поздно вышло на свет дня. Вот и это тайное стало явным, чтобы — подвергнуться суду. Петер-Андреас презрел божьи заповеди. Как он отвратил сердце своё от отца своего и матери своей, так преступил он и божью заповедь, которая гласит: «Не укради». Да, сын мой, я не пощажу тебя, твой грех должен быть назван своим именем. Пойми и то, что из одной только любви к тебе твой отец, твоя мать, твои братья и сестры, большие и маленькие, пытаются воззвать к твоей совести. Мы взываем потому, что не можем отказаться от надежды когда-нибудь отыскать путь к твоему сердцу, потому что не хотим, чтобы ты кончил свои дни как тот дурной брат, кому господь послал страшное проклятие: «Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле».
Вокруг стола замелькали носовые платки в красную и синюю клетку. Все сёстры плакали. Старшие братья тоже были глубоко взволнованы и изо всех сил старались сдержать слёзы, особенно после того как отец завершил свою речь такими словами:
— Я кончил. И если ты, Петер-Андреас, сохранишь эти слова в сердце своём и честно попытаешься заслужить прощение у бога и у людей, то мы никогда более не попрекнём тебя твоим проступком, он умрёт и исчезнет из нашей памяти. Давайте же, дорогие дети, вкупе вознесём молитвы отцу нашему на небеси, дабы он осенил благодатью вашего заблудшего брата… сломил его непокорный дух и вывел его из бездны греха, совлёк с пути порока. Услышь нас, господь наш, всеблагий, всемогущий и вездесущий, и пусть ни один из нас не отобьется от стада, когда мы восстанем в день Страшного суда и преклоним колена у подножия твоего престола к вящей славе твоей. Аминь!
Только на одного из присутствующих эта тирада не возымела желанного действия, или, вернее сказать, возымела действие прямо противоположное. Речь идёт о самом Петере-Андреасе. Он и вообще-то не очень высоко ценил проповеди отца, потому что был слишком прилежным учеником своих великовозрастных приятелей — работников и приказчиков, а те отзывались об особе господина пастора без всякой почтительности. Впрочем, до сих он не оставался совсем уж глух и безучастен к божественным словам и грозным изречениям из библии, с помощью которых родители пытались пробудить его совесть; а по воскресным дням, когда отец в белом облачении преклонял колена перед алтарём или стоял на кафедре под резным навесом, Петера порой даже охватывало благоговение, пусть и мимолётное.
Однако на сей раз слова библии не доходили до него. Правда, поначалу необычная форма нотации ошеломила мальчика, но растерянность продолжалась считанные секунды. По его трезвому мальчишескому разумению, между торжественным призывом к господу и парочкой недозрелых яблок, которые он стащил из-за чужого забора, существовало слишком уж явное несоответствие, и чем дальше говорил отец, чем громче всхлипывали вокруг братья и сёстры, тем спокойнее и равнодушнее становился сам виновник переполоха.
Именно сейчас в душе одиннадцатилетнего мальчика произошёл перелом в его отношении к религии. К концу проповеди он уже свысока посматривал на остальных, а когда заметил, что близнецы, поначалу только хлопавшие глазами, тоже пустили слезу, не мог сдержать улыбки.
Конечно, эта бравада отчасти была напускной, ибо унизительная сцена уязвила самое сильное чувство мальчика — чувство собственного достоинства. Щёки Петера побледнели. Страшная злость, исступлённая жажда мести туманом заволокли глаза.
Воспоминание об этом дне оказалось роковым не только для отношения Петера к религии. В его доселе беззаботном уме пустило ростки чувство непримиримой вражды к семье, дух непокорного одиночества, которое стало движущей силой всей его жизни. Он и раньше чувствовал себя покинутым и заброшенным под родительским кровом. Теперь он начал спрашивать себя, а точно ли он здесь родился, не чужой ли он ребёнок, усыновленный пастором Сидениусом? Чем больше он размышлял, тем правдоподобнее казалась ему такая догадка. Страх, с каким сторонились его после злосчастного дня братья и сёстры, усиливал подозрения. А разве ему не приходилось сотни раз слышать, что он не похож на других? Разве отец хоть раз приласкал его, хоть раз сказал ему доброе слово? А его внешность? Стоит только взглянуть в зеркало, сразу видно, что он смуглее остальных, щёки у него румяней, а зубы белей и крепче. Петер хорошо запомнил, как соседский работник однажды, словно в шутку, назвал его цыганёнком.
Мысль о том, что он не родной сын пастора, неотступно преследовала его в годы отрочества и наконец обратилась в навязчивую идею. Ведь это не только объясняло его особое положение в родительском доме, но вдобавок приятно щекотало мальчишеское тщеславие. Не слишком-то лестно быть сыном старого, подслеповатого и беззубого человека, над кем потешается весь город. А как унизительна бедность, в которой живёт семья. Ещё совсем малышом он предпочитал целый день проголодать в школе, лишь бы не есть на глазах у всех принесенный из дому хлеб с салом. Однажды, когда мать перешила ему из старого отцовского стихаря зимнюю куртку, он отказался надевать её, так как залоснившееся сукно слишком явно выдавало происхождение обновки, а когда мать хотела принудить его, со слезами разорвал куртку и швырнул её на пол.