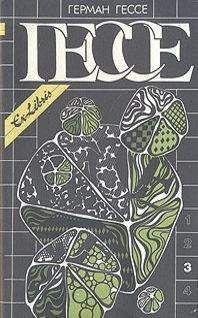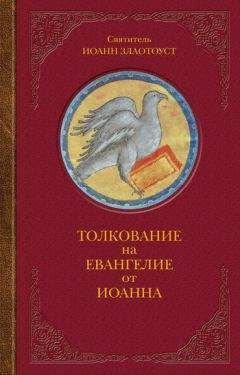Герман Гессе - Нарцисс и Златоуст
Но уже в первую весну этой дружбы он столкнулся со странными препятствиями, с неожиданными, загадочными периодами охлаждения, с пугающей требовательностью. Ибо он был далек от того, чтобы воспринимать себя как антипода и противоположность своего друга. Ему казалось, достаточно одной только любви, одной только искренней преданности, чтобы превратить двоих в единое целое, чтобы сгладить различия и преодолеть противоречия. Но каким суровым и твердым, каким неумолимо строгим был этот Нарцисс! Казалось, ему неведомы и нежелательны простодушная самоотверженность и благодарные совместные странствия по стране дружбы. Казалось, он не знал и не терпел путей без цели, мечтательного кружения вокруг да около. И хотя в пору недомогания Златоуста он заботился о нем, хотя он помогал ему и давал ценные советы в учебных и научных занятиях, объяснял трудные места в книгах, учил понимать тонкости грамматики, логики, теологии, но, казалось, никогда не был по-настоящему доволен другом и согласен с ним, более того, часто он, по-видимому, посмеивался над ним и не принимал его всерьез. Златоуст, правда, чувствовал, что это не педантизм, не важничанье старшего и более умного, что за этим стоит нечто более глубокое и значительное. Но понять, что представляет собой это более глубокое, он не мог, и нередко дружба с Нарциссом повергала его в состояние печали и растерянности.
В действительности Нарцисс прекрасно понимал, что происходит с другом, он видел и его цветущую красоту, и его естественную силу, богатую палитру чувств. Он ни в коем случае не был учителем-педантом, который пичкает юную цветущую душу греческим и отвечает на невинную любовь логикой. Скорее он слишком любил белокурого отрока, и в этом для него таилась опасность; ибо любовь была для него не естественным состоянием, а чудом. Он не позволял себе влюбиться, удовлетвориться приятным созерцанием этих милых глаз, близостью этого цветущего и чистого белокурого существа, он не позволял своей любви даже на мгновение задержаться на чувственных переживаниях. Ибо если Златоуст только видел свое предназначение к монашеству, аскезе и вечному стремлению к святости, то Нарцисс действительно был предназначен к такой жизни. Любовь была разрешена ему только в одной-единственной, высшей форме. Но в предназначение Златоуста к аскезе Нарцисс не верил. Яснее, чем кто бы то ни было, умел он читать в душах людей, а эта, столь любимая им, открывалась ему с особой ясностью. Он видел сущность Златоуста и глубоко понимал ее, несмотря на то что сам был его противоположностью; ибо она была другой, утраченной половиной его собственной сути. Он видел, что сущность эта укрыта твердым панцирем фантазий, просчетов воспитания и отцовских внушений, и давно уже прозрел всю не очень сложную тайну этой юной жизни. Он ясно понимал свою задачу: открыть эту тайну ее носителю, освободить его от панциря, возвратить ему его собственную природную сущность. Это будет нелегко сделать, и самое трудное заключается в том, что при этом он мог потерять своего друга.
Бесконечно медленно приближался он к своей цели. Прошли месяцы, прежде чем появилась возможность предпринять серьезную попытку и основательно поговорить со Златоустом.
Так далеки были они друг от друга, несмотря на всю их дружбу, так натянуты были отношения между ними. Так и шли они рядом, зрячий и слепой; и то, что слепой ничего не знал о своей слепоте, лишь облегчало ему жизнь.
Первую брешь Нарцисс пробил, когда пытался разузнать о переживании, которое подтолкнуло к нему потрясенного мальчика в минуту его слабости. Разузнать это было не так трудно, как он предполагал. Златоуст давно ощущал потребность исповедаться в том, что произошло той ночью; но кроме настоятеля, не было никого, к кому он испытывал бы достаточно доверия, а настоятель не был его духовником. И вот когда однажды в благоприятную минуту Нарцисс напомнил другу о самом начале их союза и мягко коснулся тайны, тот сказал без обиняков:
— Жаль, что ты еще не рукоположен и не можешь исповедовать; с радостью снял бы я с себя этот груз на исповеди и с радостью искупил бы вину покаянием. Но своему духовнику я не могу об этом поведать.
Осторожно, словно охотник, напавший на верный след, Нарцисс продолжал расспросы.
— Ты помнишь, — начал он с оглядкой, — то утро, когда тебе показалось, что ты заболел? Ты не забыл его, ведь именно тогда мы стали друзьями. Я часто думаю о нем. Быть может, ты не обратил внимания, но я тогда был довольно беспомощен.
— Ты — и беспомощен? — недоверчиво воскликнул друг. — Напротив, беспомощным был я! Это я стоял перед тобой всхлипывая, не мог вымолвить ни слова и в конце концов разрыдался, как дитя! Да я до сих пор стыжусь этой минуты; я думал, что никогда больше не смогу показаться тебе на глаза. Ты видел меня таким жалким и слабым!
Нарцисс ощупью продвигался дальше.
— Я понимаю, — сказал он, — тебе это было неприятно. Такой крепкий и храбрый парень, как ты, — и вдруг разрыдался перед чужим человеком, да еще перед учителем, это и впрямь не вязалось с твоим обликом. Ну, тогда я посчитал, что ты и в самом деле болен. Даже Аристотель повел бы себя необычно, если бы его трясла лихорадка. Но ведь ты тогда вовсе не был болен! И лихорадка тут ни при чем! Именно этого ты стыдишься. Тому, кого лихорадит, нечего стыдиться, не так ли? Тебе было стыдно, потому что ты оказался во власти какого-то иного переживания, потому что тебя что-то потрясло. Случилось нечто особенное?
Златоуст немного поколебался, а затем медленно проговорил:
— Да, случилось нечто особенное. Позволь мне считать тебя своим духовником; когда-нибудь надо же это высказать.
Опустив голову, он поведал другу историю той ночи.
На это Нарцисс, улыбаясь, сказал:
— Ну да, ходить «в деревню» в самом деле запрещено. Но можно сделать много запретного и посмеяться или исповедаться — и дело с концом, оно тебя больше не касается. Почему тебе нельзя делать маленькие глупости, которые делает почти каждый школяр? Разве это так уж плохо?
Не сдержавшись, Златоуст разразился гневной тирадой:
— Ты и впрямь говоришь, как школьный учитель! А ведь ты точно знаешь, о чем речь! Разумеется, я не вижу большого греха в том, чтобы подшутить разок над местными правилами и поучаствовать в проделке школяров, хотя это и нельзя счесть подготовкой к монастырской жизни.
— Замолчи! — резко воскликнул Нарцисс. — Тебе разве не ведомо, друже, что для многих благочестивых отцов была нужна именно такая подготовка? Разве ты не знаешь, что одним из кратчайших путей к жизни святого может стать жизнь развратника?
— Ах, перестань! — возразил Златоуст. — Я хотел сказать: не малая толика непослушания отягощала мою совесть, а нечто иное. Это была девушка. Это было чувство, которое я не могу тебе описать. Такое чувство, что стоит мне только поддаться искушению, стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до девушки, и я уже никогда не найду пути назад, что грех поглотит меня, как бездна ада, и никогда уже не отпустит. Что всем прекрасным мечтам, всем добродетелям, всей любви к Богу придет конец.
Нарцисс задумчиво кивнул.
— Любовь к Богу, — сказал он, медленно подыскивая слова, — не всегда совпадает с любовью к добру. Ах, если бы все было так просто! Мы знаем, что есть добро, об этом говорится в заповедях. Но в заповедях не весь Бог, они — лишь маленькая частичка его. Ты можешь следовать заповедям и быть далеко от Бога.
— Неужели ты не понимаешь меня? — жалобно спросил Златоуст.
— Разумеется, я тебя понимаю. В женщине, в проблемах пола ты чувствуешь воплощение всего того, что ты называешь «миром» и «грехом». Тебе кажется, что на все другие грехи ты или вовсе не способен, или же, даже совершив их, не позволишь им раздавить себя, покаешься и загладишь вину. Кроме одного греха!
— Точно, это именно то, что я чувствую.
— Вот видишь, я тебя понимаю. К тому же ты не далек от истины, история о Еве и змее-искусителе и в самом деле не досужий вымысел. И все же ты не прав, милый. Ты был бы прав, будь ты настоятелем Даниилом или твоим крестным, святым Хризостомом, будь ты епископом, священником или только простым монахом. Но ты ни то, ни другое, ни третье. Ты школяр, и, даже если ты желаешь навсегда остаться в монастыре или если твой отец этого желает для тебя, ты ведь еще не давал обета, тебя не посвятили в сан священника. Если тебя сегодня или завтра начнет соблазнять красивая девушка и ты поддашься искушению, ты не нарушишь клятвы, не преступишь обета.
— Писаного обета! — воскликнул Златоуст, сильно волнуясь. — Но я преступлю неписаный, священный обет, который ношу в себе. Неужели ты не понимаешь: то, что годится для многих других, не годится для меня. Ты сам ведь тоже еще не посвящен и не дал обета, однако же ты никогда не позволишь себе коснуться женщины! Или я ошибаюсь? Разве ты не такой? Разве ты не тот, за кого я тебя принимаю? Разве в сердце своем ты давно уже не поклялся в том, в чем еще не клялся словесно перед вышестоящими? Разве ты не чувствуешь себя обязанным до конца дней следовать этой клятве? Или ты не такой, как я?