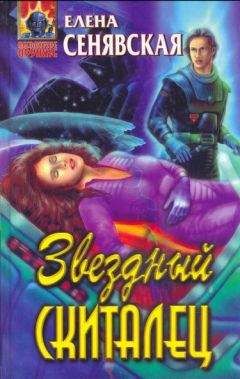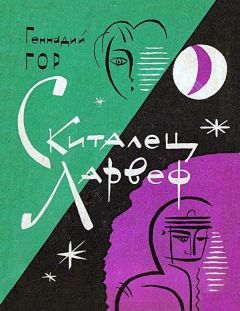Скиталец - Кандалы
Это говорил из угла человек в блузе, с продолговатой каштановой бородой и холодными, как сталь, пронзительными глазами. Говорил сухо и язвительно, с наружным спокойствием годами накопившегося сарказма. Холодные слова его проникали в сердце, как яд, а от пронзительных глаз становилось неприятно.
Он встал и вразвалку вышел из комнаты.
— Вот черт! — вырвалось у кого-то. — Речь, можно сказать, тоже непримиримая, но только с другой стороны, а глядит-то как? Его глазами вместо алмаза можно стекло резать!
— А ты, часом, не стекольщик?
— Стекольщик и есть! А он кто?
— Слесарь с литейного завода, Альбрехт! Его будто и не видать нигде, а вся суть в нем: что скажет, то вся мастерская примет — а оттуда и по всему заводу его словцо пойдет! Поговори-ка с ним! Башка! А язык! Как бритва! Петербургский подпольщик.
— Эх, если бы все рабочие были у нас, как Альбрехт!
— В том-то и горе, что еще мало таких!
Вошел Кирилл и поманил кого-то пальцем: из облаков дыма возник поэт Клим Бушуев. Кирилл под руку повел его за дверь. В коридоре стоял Ильин, слушавший разговоры.
Кирилл познакомил их.
— Я прочел ваши стихи! — сурово и строго пророкотал певец. — Пожалуй, когда-нибудь что-нибудь выйдет, но теперь это не то, что нужно в нашей литературе! Вы слишком мрачно рисуете народ!
Заметив, как изменился в лице поэт, Ильин добавил:
— Талант есть, продолжать следует, но печататься рано! — И начал говорить о том, что Клим слишком молод, что времени впереди еще мною.
Возвратил поэту тоненькую тетрадку и повернулся к нему спиной. Его сразу окружили поклонницы его голоса.
Клим стоял красный, как вареный рак.
— Оратор! — раздраженно сказал он, обращаясь к Кириллу. — Герой ненаписанного романа! Ему, видите ли, нужно то, что пишут все! — И с укоризной добавил: — Это все ты! потихоньку утащил у меня тетрадку! Я бы не дал!
— Да ведь он похвалил тебя, сказал, что есть талант!..
— Похвалил! Он, наверное, всем так говорит, кто не под его дудку пляшет! Тоже в народ ходил, а мне, хоть и молод я, в народ ходить недалеко! Всегда могу! Рабочий верно сказал: барич! И чего он знаменитость из себя изображает? Ведь только и есть, что с писателями знаком! Наверно, подумал, что мне его протекции нужны? Десять лет не буду писать, но потом увидишь — все-таки буду в литературе!
Гул вечеринки возрастал, все чаще слышалось пение. Разносился молодой, размашистый голос Фиты:
Наша жизнь коротка —
Все уносит с собою!
Из нестройного, разноголосого хора выделялись густой, как медвежий рев, дикий голос Павла и тонкая фистула Онтона:
Где прежде в Капитолии
Судилися цари —
Там в наши времена
Живут пономари!
Ленц, пожилой полный человек в визитке, с крупными чертами некрасивого лица, принял Бушуева в кабинете, тесно заставленном тяжелой мебелью, с бронзовым бюстом богини Паллады на большом письменном столе. Подал юноше руку, сказал, что может устроить его на службу в окружной суд, и просил прийти туда наутро: сказал, что он там его встретит и представит председателю.
Юноша поблагодарил, передал заготовленное прошение и хотел было откланяться, но Карл Карлович, оглянув его блузу, сказал: «постойте» — и, на минуту заглянув в смежную комнату, вынес оттуда черный суконный сюртук.
— Это мой сюртук, я носил его, когда худой был! Теперь он мне не годится, но вам придется как раз, возьмите его и еще купите себе крахмальную рубашку!
Ленц передал юноше сюртук, две трешницы, проводил до порога и, снова пожав ему руку, сказал:
— До завтра!
Наутро Клим в крахмальной сорочке и сюртуке, болтавшемся на его худощавой фигуре, как на вешалке, поднялся по величественной мраморной лестнице, застланной красным ковром. У подъезда и у лестницы сидели и стояли мужики с котомками за спиной. Ждать в приемной пришлось недолго. Карл Карлович во фраке с адвокатским знаком в петличке, с портфелем в руке приехал одним из первых и, увидав Бушуева, пригласил его за собой.
Они долго шли по длинному коридору. В большом кабинете, украшенном масляными портретами царей, за огромным письменным столом сидел старый великан в форменном судейском мундире с золотым шитьем. Лицо его, украшенное седыми бакенбардами, ежеминутно подергивалось. Перед ним стояло в очереди несколько человек.
Ленц представил нового «вольнонаемного». Старичище встал, протянул волосатую руку юноше, быстро и привычно пробормотал:
— В уголовное отделение, стол второй!
Они вышли, прошли коридор, спустились в первый этаж.
— Ну что, каков наш председатель?
— Я испугался его! — признался юноша.
— А на самом деле добрейший человек, передовых взглядов. Ему под восемьдесят, младший брат декабриста. Когда старший брат прислал из каторги двоим своим братьям кандалы, в которых его везли в Сибирь, братья, чтобы получить каждому часть цепи на память, взяли ее за концы и разорвали на две части. Вот люди были!
В нижнем этаже, в канцелярии уголовного отделения, было несколько комнат; каменные стертые плиты полов и аршинной толщины стены говорили о том, что здание стояло века. Высокие окна — за железными решетками.
— Когда-то здесь было арестантское отделение! — добродушно объяснил Ленц, входя в довольно большую комнату с низкими каменными сводами.
За тремя большими простыми столами, накрытыми темной клеенкой, сидело несколько человек, все скрипели перьями, наклонясь над работой. По стенам стояли три тяжелых раскрытых шкафа, в которых хранились дела, с надписями над каждой полкой: «Убийство», «Разбой», «Грабеж», «Кражи», «Растление», «Изнасилование», «Скотоложство». Дальше Клим не стал читать. Его поразил мрак этих преступлений. Наружность писцов соответствовала окружающей обстановке: бедно одетые, с тупыми лицами, они не обратили на пришедших никакого внимания. Один из них был бритый старик с лицом в серебряной щетине, в потертом цветном камзоле, высоких чулках и башмаках с пряжками: старинный покрой, уцелевший с восемнадцатого века. За большим столом, во главе двоих писцов, сидел столоначальник — с бородой и волосами Робинзона или «головы Иоанна Крестителя на блюде», но на этом и кончалось последнее сходство, так как от «Иоанна» несло перегаром.
— Вот вам новый писец! — спокойно сказал ему Ленц и тотчас же ушел.
«Робинзон» пробормотал что-то глубочайшей октавой и дал новичку работу: переписать обвинительный акт по обвинению в разбое нескольких лиц, скрывавшихся в пещере Жигулевских гор. Начало заинтересовало нового писца, но от ужасного канцелярского языка он скоро перестал понимать то, что переписывал.
VIIВысланная из столиц молодежь, создавшая необыкновенное оживление в провинции, рассеялась. Многих арестовали и отправили в ссылку, иные осели на месте под надзором полиции или разъехались кто куда мог.
Оратор, сделавший «вставочку», оказался подпольщиком, работавшим под вымышленной кличкой. Он был отправлен в Сибирь.
Кирилл устроился на службу, Ильин уехал в Москву.
С «графом» произошло трагикомическое недоразумение. Учебное заведение, куда он целый год готовился, оказалось закрытым десять лет назад. На счастье «графа», в город опять приехал артист Андреев-Бурлак и принял его на должность передового драматическо-опереточной труппы, разъезжавшей по провинции. Фита поступил в опереточный хор. После нескольких гастролей труппы два друга уехали с нею в дальнейшее путешествие.
Клим, уязвленный отзывом Ильина, впав в мрачное расположение духа, говорил всем, что больше не хочет писать стихов, носил плед и широкополую шляпу, зачитывался стихотворениями Гейне. Жил в отвлеченных мечтах о красивой фантастической жизни неведомой страны, которую представлял себе страной испанских серенад и венецианских гондольеров, мысленно переселяясь в эпоху Возрождения. Вместе с тем, заинтересовавшись уголовными делами окружного суда, завел дружбу с архивариусом, увлекся — как романами — обвинительными актами против преступной и бродяжьей Руси, которую каждый день видел у подъезда суда.
Вукол, поступив к Тарасу на должность подрегента, продолжал брать у него уроки теории игры на скрипке. Поселившись в чердачном мезонине, в то же время готовился в университет.
Познакомившись с обширным материалом концертного пения на библейские темы, где видное место занимали творения Моцарта и Сарти, Веделя и Бортнянского, он поражен был глубиной векового источника современной музыки. Убедился, что симфония и опера явились оттуда и что иначе не было бы Бетховена, Баха, Мейербера, Вагнера, Рубинштейна и многих их последователей.
В величественных образах древнееврейской поэзии, в псалмах мифического Давида, использованных крупнейшими композиторами, отражалась борьба за освобождение плененного народа, и многое в этой вечной поэзии, как псалом «На реках Вавилонских», казалось созвучным современному настроению. Музыка в течение веков была узурпирована церковью, заставлявшей все служить ей: поэзию, музыку, зодчество и живопись.