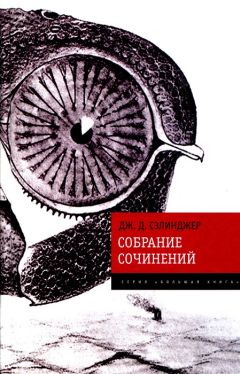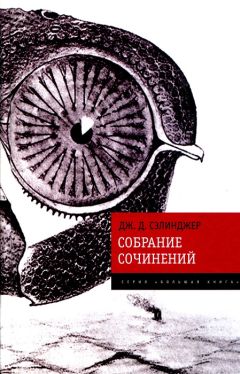Джером Сэлинджер - Повести о Глассах
В последнем абзаце меня вдруг обдала холодом одна мысль: почему меня так редко забавляли выходки наших ребят? Наверно, оттого, что со мной они обычно проделывали злые шутки. Может быть, я и заслужил такое отношение. Я себя спрашиваю: знает ли мой читатель, что такое огромная семья? И еще: не надоедят ли ему мои рассуждения по этому поводу? Скажу хотя бы вот что: если ты старший брат в большой семье (особенно, когда между тобой и младшим существует разница в восемнадцать лет, как между Симором и Фрэнни), то либо ты сам берешь на себя роль наставника, ментора, или тебе ее навязывают, и существует опасность стать для детей чем-то вроде настырного гувернера. Но даже гувернеры бывают разной породы, разных мастей. Например, когда Симор говорил близнецам, или Зуи, или Фрэнни, или даже мадам Бу-Бу (а она всего на два года моложе меня и тогда уже стала совсем барышней), что надо снять калоши, когда входишь в дом, то каждый поймет его слова в том смысле, что иначе нанесешь грязь и Бесси придется возиться с тряпкой. А когда им то же самое говорил я, они считали, будто я намекал, что тот, кто не снимает калоши, – грязнуля, неряха. Поэтому они и дразнили, и высмеивали нас с Симором по-разному. Признаюсь с тяжелым вздохом: что-то слишком заискивающе звучат эти Честные, Искренние признания. А что прикажете делать? Неужели надо бросать работу каждый раз, как только в моих строчках зазвучит голос этакого Честного Малого? Неужто мне нельзя надеяться, что читатель поймет: разве я стал бы принижать себя – в частности, подчеркивать, какой я негодный воспитатель, – если бы не был твердо уверен, что моя семья ко мне относилась более чем прохладно? Может быть, полезно напомнить вам, сколько мне лет? Я сорокалетний, седоватый писака, с довольно внушительным брюшком и довольно твердо уверенный, что мне уже никогда больше не придется швырять оземь свою серебряную ложку в обиде на то, что меня в этом году не включили в состав баскетбольной команды или не послали на военную подготовку оттого, что я плохо умею отдавать честь. Да и вообще, всякая откровенная исповедь всегда попахивает гордостью: пишущий гордится тем, как он здорово преодолел свою гордость. Главное, надо уметь в такой публичной исповеди подслушать именно т о, о чем исповедующийся умолчал. В какой-то период жизни (к сожалению, обычно в период успехов) человек может Почувствовать В Себе Силу. Сознаться, что он сжульничал на выпускных экзаменах… А может, настолько разоткровенничается, что сообщит, как с двадцати двух до двадцати четырех лет он был импотентом; но сами по себе эти мужественные признания вовсе не гарантируют, что мы когда-нибудь узнаем, как он разозлился на своего ручного хомячка и наступил на него. Простите, что я вдаюсь в такие мелочи, но тут я беспокоюсь не зря. Пишу я о единственном знакомом мне человеке, которого я, по своему критерию, считал действительно выдающимся, – он – единственный по-настоящему большой человек из всех, который никогда не внушал мне подозрения, что где-то, втайне, у него внутри, как в шкафу, набито противное, скучное мелкое тщеславие. Мне становится нехорошо и, по правде говоря, как-то жутко при одной только мысли, что я могу невольно затмить Симора на этих страницах своим личным обаянием. Простите меня, пожалуйста, за эти слова, но не все читатели достаточно опытны. (Когда Симору шел двадцать второй год и он уже два года преподавал, я спросил его, что его особенно угнетает в этой работе – если вообще что-то его угнетает. Он сказал, что по-настоящему его ничто не угнетает, но есть одна вещь, которая как-то пугает его: ему становится не по себе, когда он читает карандашные заметки на полях книг из университетской библиотеки.) Сейчас я объясню. Не все читатели, повторяю, достаточно опытны, а мне говорили – критики ведь говорят нам всё, и самое худшее прежде всего, – что во многом я как писатель обладаю некоторым поверхностным шармом. Я искренне боюсь, что есть и такие читатели, которые подумают, что с моей стороны было очень мило дожить до сорока лет; то есть не быть таким «эгоистом», как Тот Другой, и не покончить с собой, оставив Свою Любящую Семью на мели. (Я обещал исчерпать эту тему, но, пожалуй, до конца все выкладывать не стану. И не только потому, что я не такой железный человек, каким полагается быть, но потому, что, говоря об этом, мне пришлось бы коснуться (о господи – коснуться!) – подробностей его самоубийства, а судя по теперешнему моему состоянию, я не смогу об этом говорить еще много лет.)
Перед тем как лечь спать, скажу вам еще только одно, и мне кажется, что это очень существенно. И я буду очень благодарен, если все честно постараются не считать, что я «поздно спохватился». Хочу сказать, что я могу привести убедительнейшие доказательства того, что сейчас, когда я пишу эти страницы, мой возраст – сорок лет – является и огромным преимуществом, и в то же время огромным недостатком. Симору шел тридцать второй год, когда он умер. Даже довести его жизнеописание до этого далеко не преклонного возраста потребует у меня, при моем темпе работы, много-много месяцев, если не лет. Сейчас вы его увидите ребенком и мальчиком (только, ради Бога, не малышом), и там, где я сам появляюсь в этой книге рядом с ним, я тоже ребенок, тоже мальчик. Но вместе с тем я все время чувствую, да и читатель это ощущает, хотя и не так пристрастно, что сейчас заправляет всем этим рассказом довольно пузатый и далеко не юный тип. С моей точки зрения эта мысль ничуть не печальнее, чем все факты, касающиеся жизни и смерти, но и ничуть не веселее. Конечно, вам придется поверить мне на слово, но должен вам сказать, что я твердо знаю одно: если бы мы поменялись местами и Симор сейчас сидел бы за столом вместо меня, он был бы так огорошен, вернее, так потрясен своим старшинством и ролью рассказчика и официального рефери32, что он бросил бы всю эту затею. Больше я об этом, конечно, говорить не стану, но я рад, что пришлось к слову. Это правда. Пожалуйста, постарайтесь не просто понять; прочувствуйте мои слова.
Кажется, я в конце концов не лягу спать. Кто-то «зарезал сон»33. Молодец!
Резкий, неприятный голос (говорит не м о й читатель): «Вы обещали рассказать нам, Как Выглядел Ваш Брат. Не нужен нам этот Ваш треклятый психоанализ, вся эта тягомотина». А мне нужна. Нужен каждый слог этой «тягомотины». Могу, конечно, не вдаваться так глубоко в анализ, но, повторяю, мне нужен каждый слог этой «тягомотины». И если я молю судьбу, чтобы мне до конца довести это дело, то помочь мне в этом может только «вся эта тягомотина».
Думаю, что мне удастся описать, как он выглядел, как держался и вел себя (словом, всю эту петрушку) в любой момент его жизни (кроме того времени, когда он был в Европе), и создать верный образ. Нет, это вовсе не оговорка. Портрет будет точный. (Где же, когда же мне придется объяснять читателю – если только буду писать дальше, – какой памятью, каким огромным запасом воспоминаний обладали некоторые члены нашей семьи – Симор, Зуи, я сам. Нельзя до бесконечности откладывать это дело, но не покажется ли такая откровенность в печати чем-то уродливым?) Мне очень помогло бы, если бы какая-нибудь добрая душа прислала мне телеграмму, где было бы уточнено – о каком именно Симоре ему хотелось бы от меня услышать. Если меня попросят просто описать Симора, то есть Симора вообще, я мог бы несомненно дать довольно живой портрет, но передо мной Симор появляется одновременно и в восемь, и в восемнадцать, и в двадцать восемь лет, кудрявый – и уже сильно лысеющий, в красных полосатых шортах скаута из летнего лагеря – и в мятой защитной гимнастерке с сержантскими нашивками, и сидит он то в позе «падмасана»34, то на балконе кино, на Восемьдесят шестой улице. Чувствую, как мне угрожает именно такой стиль описания, а мне он не нравится. И прежде всего потому, что и Симор был бы, как мне кажется, недоволен. Тяжко, если твой Герой одновременно и твой «шер мэтр»35. Впрочем, он, быть может, и не очень расстроился бы, если б я, проконсультировавшись со своим внутренним чутьем, постарался бы изобразить его внешность в стиле, так сказать, литературного кубизма. Да и вообще вряд ли он стал бы расстраиваться, пиши я про него только петитом, – если мне так подскажет мое внутреннее чутье. Я-то сам в данном случае не возражал бы против какой-то формы кубизма, но вся моя интуиция подсказывает мне, что с этим надо бороться всеми своими мелкобуржуазными силенками. В общем, лучше сначала выспаться. Спокойной ночи. Спокойной ночи, миссис Калабаш. Спокойной ночи, Растреклятый Литпортрет.
Так как мне самому рассказывать довольно трудно, то сегодня утром на лекции я решил (уставившись, хотя и неловко признаться, на невероятно стройные «топтушки» некой мисс Вальдемар), что истинная учтивость требует предоставить слово моим родителям, а кому же в первую очередь, как не самой Праматери? Однако тут это весьма и весьма рискованно. И если от избытка чувств человек не станет вруном, то его наверняка подведет его отвратительная память. Например, Бесси всегда считала главной особенностью Симора его высокий рост. Ей казалось, что у него необычайно длинные руки и ноги, как у ковбоя, и что он, входя в комнату, всегда пригибает голову. А на самом деле в нем было что-то около пяти с половиной футов, и при современных «витаминизированных» стандартах он был совсем невысок. Ему это даже нравилось. Он за ростом не гонялся. А когда наши близнецы вымахнули на шесть футов с лишним, я даже подумывал – не пошлет ли он им открыточку с соболезнованием. Наверно, будь он сейчас жив, он бы сиял улыбкой, видя, что Зуи, актер по профессии, роста небольшого. Он, С., всегда был твердо уверен, что центр тяжести у актера должен быть расположен невысоко.