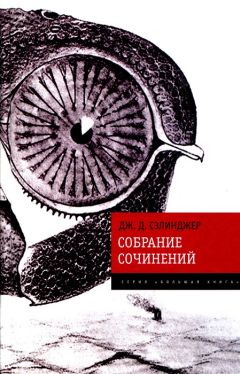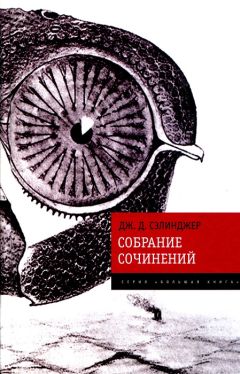Джером Сэлинджер - Повести о Глассах
Дальше уже пишу я – Бадди. Гласс. (Кстати, Бадди Гласс – мой литературный псевдоним), настоящая моя фамилия – майор Джордж Фильдинг Анти-Развязкинд). Я и сам очень взволнован и драматически настроен, и мне хочется в горячем порыве дать обещание моему читателю, при встрече с ним завтрашним вечером, что встреча эта буквально будет звездной. Но думаю, что сейчас самое разумное – почистить зубы и лечь спать. И если вам было трудно читать записку моего брата, то не могу не пожаловаться, что перепечатывать ее для друзей было просто мучением. А сейчас я укрываю колени тем звездным небом, которое он подарил мне вместе с напутствием: "Скорее выздоравливай от гепатита – и от малодушия ".
Не слишком ли будет преждевременно, если я расскажу читателю, чем я собираюсь его занять завтрашним вечером? Уже больше десяти лет я мечтаю, чтобы вопрос: «Как Выглядел Ваш Брат?» – был мне задан человеком, который не требовал бы непременно получить краткий, сжатый ответ на очень прямой вопрос. Короче говоря, мне больше всего хотелось бы прочитать, свернувшись в кресле, что-нибудь, что угодно, как мне рекомендовал мой признанный авторитет, а именно: полное описание внешности Симора, сделанное неторопливо, без дикой спешки, без желания отделаться от него, то есть прочесть главу, написанную, скажу без всякого стеснения, лично мной самим.
Его волосы так и разлетались по всей парикмахерской. (Уже настал Завтрашний Вечер, и я, само собой разумеется, сижу тут, в смокинге.) Его волосы так и разлетались по всей парикмахерской. Свят, свят, свят! И это называется вступлением! Неужели вся глава мало-помалу, очень постепенно, наполнится кукурузными пышками и яблочным пирогом? Возможно. Не хочется верить, но всё может случиться. А если я стану заниматься отбором деталей, то я все брошу к черту, еще до начала. Не могу я все сортировать, не могу заниматься канцелярщиной, когда пишу о нем. Могу только надеяться, что хоть часть этих строк будет достаточно осмысленной, но хоть раз в жизни не заставляйте меня рентгеноскопировать каждую фразу, не то я совсем брошу писать. А разлетающиеся волосы Симора мне сразу вспомнились как совершенно необходимая деталь. Стриглись мы обычно через одну радиопередачу, то есть каждые две недели, после школы. Парикмахерская на углу Бродвея и Сто восьмой улицы зеленела, угнездившись (хватит красот!) между китайским ресторанчиком и кошерной гастрономической лавочкой. Если мы забывали съесть свой завтрак или, вернее, теряли наши бутерброды неизвестно где, мы иногда покупали центов на пятнадцать нарезанной салями или пару маринованных огурцов и съедали их в парикмахерских креслах, пока нас не начинали стричь. Парикмахеров звали Марио и Виктор. Уже немало лет прошло, и они оба, наверно, померли, объевшись чесноком, как и многие нью-йоркские парикмахеры. (Брось ты эти штучки, слышишь? Постарайся, пожалуйста, убить их в зародыше.) Наши кресла стояли рядом, и когда Марио кончал меня стричь, снимал салфетку и – начинал ее стряхивать, с нее летело больше Симоровых волос, чем моих. За всю мою жизнь мало что так меня бесило. Но пожаловался я только раз, и это было колоссальной ошибкой. Я что-то буркнул, очень ехидно, про его «подлые волосья», которые все время летят на меня. Сказал – и тут же раскаялся. А он ничего не ответил, но тут же из-за этого огорчился. Мы шли домой, молчали, переходя улицы, а он расстраивался все больше и больше. Видно, придумывал, как сделать, чтобы в парикмахерской его волосы не падали на брата. А когда мы дошли до Сто десятой улицы, то весь длинный пролет от Бродвея до нашего дома Симор прошел в такой тоске, что даже трудно себе представить, чтобы кто-то из нашей семьи мог так надолго упасть духом, даже если бы на то была Важная Причина, как у Симора. На этот вечер хватит. Я очень вымотался.
Добавлю одно. Чего я хочу (разрядка везде моя), добиться в описании его внешности? Более того, что именно я хочу сделать? Хочу ли я отдать это описание в журнал? Да, хочу. И напечатать хочу. Но дело-то не в этом: печататься я хочу всегда. Тут дело больше в том, как я хочу переслать этот материал в журнал. Фактически, это главное. Кажется, я знаю. Да, я хорошо знаю, что я это знаю. Я хочу переслать словесный портрет Симора не в толстом конверте и не заказным. Если портрет будет верный, то мне придется только дать ему мелочь на билет, может быть, завернуть на дорогу бутербродик, налить в термос чего-нибудь горячего – вот и хватит. А соседям по купе придется малость потесниться, отодвинуться от него, будто он чуть-чуть навеселе. Вот блестящая мысль! Пускай по этому описанию покажется, что он чуть-чуть пьян. Но почему мне кажется, что он чуточку пьян? По-моему, именно таким кажется человек, которого ты очень любишь, а он вдруг входит к тебе на террасу, расплываясь в широкой-широкой улыбке, после трех труднейших теннисных сетов, выигранных сетов, и спрашивает: видел ли ты его последнюю подачу? Да. Oui31.
Снова вечер. Помни, что тебя будут читать. Расскажи читателю, где ты сейчас. Будь с ним мил, – кто его знает… Конечно, конечно. Да, я сейчас у себя, в зимнем саду, позвонил, чтобы мне принесли портвейн, и сейчас его подаст наш добрый старый дворецкий – очень интеллигентный, дородный, вылощенный Мыш, который съедает подчистую все, что есть в доме, кроме экзаменационных работ.
Вернусь к описанию волос Симора, раз уж они залетели на эти страницы. До того как, примерно лет в девятнадцать, волосы у Симора стали вылезать целыми прядями, они были жесткие, черные и довольно круто вились. Можно было бы сказать «кудрявые», но если бы понадобилось, я так бы и сказал. Они вызывали непреодолимое желание подергать их, и как их вечно дергали! Все младенцы в нашем семействе сразу вцеплялись в них даже прежде, чем схватить Симора за нос, а нос у него был, даю слово, Выдающийся. Но давайте по порядку. Да, он был очень волосат, и взрослым, и юношей, и подростком. Все наши дети, и не только мальчишки, а их у нас было много, были очарованы его волосатыми запястьями и предплечьями. Мой одиннадцатилетний брат Уолт постоянно глазел на руки Симора и просил его снять свитер: "Эй, Симор, давай снимай свитер, тут ведь жарко". И Симор ему улыбался, озарял его улыбкой. Ему нравились эти ребячьи выходки. Мне – тоже, но далеко не всегда. А ему – всегда. Казалось, он даже в самых бестактных, самых бесцеремонных замечаниях младших ребят черпал какое-то удовольствие, даже силу. Сейчас, в 1959 году, когда до меня доходят слухи о довольно огорчительном поведении моей младшей сестрицы и братца, я стараюсь вспомнить, сколько радости они приносили Симору. Помню, как Фрэнни, когда ей было года четыре, сидя у него на коленях, сказала, глядя на него с нескрываемым восхищением: "Симор, у тебя зубки такие красивые, желтенькие". Он буквально бросился ко мне, чтобы спросить – слышал я или нет.
В последнем абзаце меня вдруг обдала холодом одна мысль: почему меня так редко забавляли выходки наших ребят? Наверно, оттого, что со мной они обычно проделывали злые шутки. Может быть, я и заслужил такое отношение. Я себя спрашиваю: знает ли мой читатель, что такое огромная семья? И еще: не надоедят ли ему мои рассуждения по этому поводу? Скажу хотя бы вот что: если ты старший брат в большой семье (особенно, когда между тобой и младшим существует разница в восемнадцать лет, как между Симором и Фрэнни), то либо ты сам берешь на себя роль наставника, ментора, или тебе ее навязывают, и существует опасность стать для детей чем-то вроде настырного гувернера. Но даже гувернеры бывают разной породы, разных мастей. Например, когда Симор говорил близнецам, или Зуи, или Фрэнни, или даже мадам Бу-Бу (а она всего на два года моложе меня и тогда уже стала совсем барышней), что надо снять калоши, когда входишь в дом, то каждый поймет его слова в том смысле, что иначе нанесешь грязь и Бесси придется возиться с тряпкой. А когда им то же самое говорил я, они считали, будто я намекал, что тот, кто не снимает калоши, – грязнуля, неряха. Поэтому они и дразнили, и высмеивали нас с Симором по-разному. Признаюсь с тяжелым вздохом: что-то слишком заискивающе звучат эти Честные, Искренние признания. А что прикажете делать? Неужели надо бросать работу каждый раз, как только в моих строчках зазвучит голос этакого Честного Малого? Неужто мне нельзя надеяться, что читатель поймет: разве я стал бы принижать себя – в частности, подчеркивать, какой я негодный воспитатель, – если бы не был твердо уверен, что моя семья ко мне относилась более чем прохладно? Может быть, полезно напомнить вам, сколько мне лет? Я сорокалетний, седоватый писака, с довольно внушительным брюшком и довольно твердо уверенный, что мне уже никогда больше не придется швырять оземь свою серебряную ложку в обиде на то, что меня в этом году не включили в состав баскетбольной команды или не послали на военную подготовку оттого, что я плохо умею отдавать честь. Да и вообще, всякая откровенная исповедь всегда попахивает гордостью: пишущий гордится тем, как он здорово преодолел свою гордость. Главное, надо уметь в такой публичной исповеди подслушать именно т о, о чем исповедующийся умолчал. В какой-то период жизни (к сожалению, обычно в период успехов) человек может Почувствовать В Себе Силу. Сознаться, что он сжульничал на выпускных экзаменах… А может, настолько разоткровенничается, что сообщит, как с двадцати двух до двадцати четырех лет он был импотентом; но сами по себе эти мужественные признания вовсе не гарантируют, что мы когда-нибудь узнаем, как он разозлился на своего ручного хомячка и наступил на него. Простите, что я вдаюсь в такие мелочи, но тут я беспокоюсь не зря. Пишу я о единственном знакомом мне человеке, которого я, по своему критерию, считал действительно выдающимся, – он – единственный по-настоящему большой человек из всех, который никогда не внушал мне подозрения, что где-то, втайне, у него внутри, как в шкафу, набито противное, скучное мелкое тщеславие. Мне становится нехорошо и, по правде говоря, как-то жутко при одной только мысли, что я могу невольно затмить Симора на этих страницах своим личным обаянием. Простите меня, пожалуйста, за эти слова, но не все читатели достаточно опытны. (Когда Симору шел двадцать второй год и он уже два года преподавал, я спросил его, что его особенно угнетает в этой работе – если вообще что-то его угнетает. Он сказал, что по-настоящему его ничто не угнетает, но есть одна вещь, которая как-то пугает его: ему становится не по себе, когда он читает карандашные заметки на полях книг из университетской библиотеки.) Сейчас я объясню. Не все читатели, повторяю, достаточно опытны, а мне говорили – критики ведь говорят нам всё, и самое худшее прежде всего, – что во многом я как писатель обладаю некоторым поверхностным шармом. Я искренне боюсь, что есть и такие читатели, которые подумают, что с моей стороны было очень мило дожить до сорока лет; то есть не быть таким «эгоистом», как Тот Другой, и не покончить с собой, оставив Свою Любящую Семью на мели. (Я обещал исчерпать эту тему, но, пожалуй, до конца все выкладывать не стану. И не только потому, что я не такой железный человек, каким полагается быть, но потому, что, говоря об этом, мне пришлось бы коснуться (о господи – коснуться!) – подробностей его самоубийства, а судя по теперешнему моему состоянию, я не смогу об этом говорить еще много лет.)