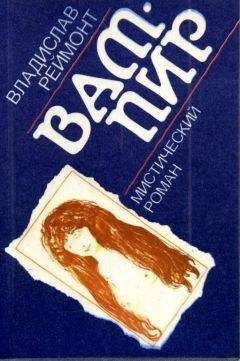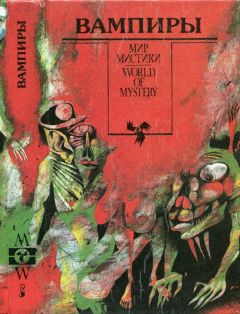Владислав Реймонт - Мужики
— Понятно. У органиста взять…
— А может быть, я здесь заработаю столько, что нам хватит… Не реви ты на людях!
— Да я не плачу, нет… Ты возьми у мельника с полмешка ячменя на крупу, дешевле выйдет, чем готовую покупать.
— Ладно, скажу ему нынче, а как-нибудь после работы останусь и смелю.
Ганка ушла, а он еще посидел, куря папиросу и не вмешиваясь в разговоры мужиков. Они говорили о брате помещика из Воли.
— Яцеком его звали, я его хорошо знал, — сказал только что вошедший Бартек.
— Так вы, верно, знаете и то, что он воротился из чужих краев?
— Нет, не знал. Неужели воротился? А я думал, он давно умер!
— Жив! Недели две как приехал.
— Да, говорят, он в уме немного тронулся. В усадьбе жить не хочет, к леснику перебрался, сам все для себя делает — и стряпает и даже одежу чинит, — так что все дивятся, а по вечерам на скрипке играет. Так со скрипкой и бродит по дорогам. И на погосте его видали — на могилках сидит и играет!
— Слыхал я, что он по деревням ходит и всех расспрашивает, не знают ли какого-то Кубу.
— Мало ли Куб! Не одну собаку Лыской звать.
— Фамилии не говорит, а ищет какого-то Кубу, который его из боя на плечах вынес и от смерти спас.
— Был у нас работник Куба, что с господами когда-то в лес уходил.[15] Да помер он! — вставил Антек и поднялся, потому что Матеуш уже орал за стеной:
— Выходите! До вечера, что ли, будете обедать?
Антека так взорвало, что он выбежал из каморки и крикнул:
— Не дери горло зря, и так слышим!
— Мяса наелся, так теперь криком брюхо облегчает, — поддержал его Бартек.
— Нет, это он перед мельником выслуживается! — сказал кто-то из мужиков.
— За обедом отсиживаются, разговоры ведут, хозяев из себя корчат, голоштанники! — ворчал Матеуш.
— Слыхал, Антоний? Это в твой огород!
— Держи язык за зубами, а то как бы я тебе его не укоротил! А насчет хозяев помалкивай! — заорал Антек, готовый уже на все.
Матеуш замолчал, но смотрел злобно и уже весь день слова никому не сказал. Он зорко следил за работой Антека, подстерегал каждый его шаг, ища, к чему бы придраться, но Антек работал так хорошо, что это заметил и мельник, приходивший сюда два-три раза в день, и при первой же недельной получке прибавил ему целых три злотых.
Матеуш бесился, наскакивал на мельника, но тот ему сказал:
— А для меня и ты хорош и он, — хорош всякий, кто добросовестно работает.
— Это вы только мне назло ему прибавили!
— Прибавил, потому что он работает не хуже Бартека, а может, и лучше. Я — справедливый человек и хочу, чтоб это все знали.
— Вот брошу все к черту — становитесь тогда сами на работу! — пригрозил Матеуш.
— Что ж, бросай, поищи булок, коли тебе черный хлеб невкусен. Уйдешь, я Борыну на твое место поставлю только за четыре злотых в день! — ответил мельник с усмешкой. Он все делал с таким расчетом, чтобы иметь работника подешевле.
Матеуш сразу смекнул, что мельник не уступит и не даст себя запугать, и больше не настаивал. Он глубоко затаил злобу на Антека, хотя она огнем палила ему сердце, но к остальным рабочим стал относиться мягче и снисходительнее. Это сразу было замечено, и Бартек, плюнув, сказал товарищам:
— Вот дурак! Попробовала собачонка сапог укусить, дали ей в зубы, вот она теперь и ластится! Он думал, что навеки палку взял, а его так же, как всякого другого, прогонят, если найдется кто получше…
А Антеку было все равно: он не радовался прибавке, не так уж тешило его и то, что Матеуш присмирел и что в деревне (так рассказывали мужики на работе) над ним теперь смеются.
Его все это так же занимало, как прошлогодний снег, а то и еще меньше. Он работал не ради денег — деньги только Ганку радовали, — а потому, что ему это нравилось. А захотелось бы валяться без дела, так и валялся бы, ни на что не глядя.
Работа его увлекла, он находил в ней забвение и до такой степени ушел в нее, что напоминал лошадь, запряженную в конный привод: ее не подгоняют, а она все бежит себе по кругу до тех пор, пока не остановят.
Так в тяжелой неустанной работе шел день за днем, неделя за неделей, до самых святок, и постепенно душа Антека успокоилась, словно затянулась льдом. Он теперь совсем непохож был на прежнего Антека, и люди удивлялись и по-разному объясняли это. Но перемена в нем была только внешняя, кажущаяся. Быстрая и глубокая река, скованная льдом и засыпанная снегом, все шумит и бурлит в глубине — и никто не знает, когда она прорвет свой покров и выйдет из берегов. То же происходило и в душе Антека. Он тяжело работал, деньги все до копейки отдавал жене, по вечерам сидел дома, был, как никогда, ласков, тих, спокоен, забавлял детей, помогал Ганке в хозяйстве, никто от него грубого слова не слышал, он ни на что не жаловался и, казалось, забыл обо всех обидах. Но не обманул он всем этим сердца Ганки. Она, конечно, радовалась перемене в нем и горячо благодарила Бога; она угождала мужу, как только могла, смотрела ему в глаза, стараясь отгадать каждое его желание, была ему самой преданной и заботливой служанкой. Но часто ловила она печальное выражение в его глазах, часто с тревогой подслушивала его тихие вздохи, и у нее руки опускались, и с замиранием сердца оглядывалась она вокруг, силясь угадать, откуда придет несчастье, — потому что она чуяла, что в душе Антека зреет что-то страшное, что-то такое, что он изо всех сил сдерживает, а оно только на время притаилось и гложет, гложет его.
Антек никогда ни единым словом не давал ей понять, хорошо ему или плохо. С работы приходил прямо домой, вставал на рассвете, как только прозвонят к заутрене. Каждый день, проходя мимо освещенного костела, он останавливался у паперти послушать орган, широко льющиеся, тихие звуки, проникавшие в душу, рождавшиеся как будто в морозном воздухе, в предрассветном сумраке. Казалось, это звенят медные зори, ледяные покровы, это мерзлая земля тоскливо, надрывно мечтает в своем тяжком и долгом зимнем сне.
Постояв, Антек шел дальше, с каждым днем все торопливее — он не хотел, чтобы люди увидели, как он слушает музыку. Шел он всегда по другой стороне озера, дальней дорогой, чтобы только не проходить мимо отцовского дома и не встретить никого.
Никого!
Оттого-то он и по воскресеньям сидел безвыходно дома. На просьбы Ганки пойти с ней в костел ответ был всегда один: нет и нет. Он боялся встречи с Ягной, он хорошо знал, что не выдержит, не справится с собой.
Притом он знал от Бартека, с которым успел подружиться, да и сам чувствовал, что деревня все еще им занята, что за ним наблюдают, следят за каждым его шагом, — словно он вор, словно все сговорились против него! Не раз замечал он глаза, подсматривавшие за ним из-за угла, не раз чувствовал на себе любопытные, жадные взгляды, которые рады бы, кажется, проникнуть на самое дно его души, увидеть ее всю насквозь, вытянуть из нее наружу каждую мысль. Эти взгляды сверлили ему душу, причиняли жестокую боль.
— Не прогрызете, сволочи, не прогрызете! — шептал он с ненавистью, и все сильнее ожесточался, и все упорнее избегал людей.
— Не нужен мне никто, я с самим собой в такой дружбе, что деваться от себя некуда, — сказал он раз Клембу, когда тот упрекнул его, зачем он никогда не заходит к ним.
И Антек сказал правду — трудно ему было. Он решительно взял себя в руки, словно стянул сердце железным обручем. Он держал его крепко, не спускал с привязи. Но все чаще дух его изнемогал от усилий, и все чаще хотелось махнуть рукой на все, положиться на судьбу. Будет она к нему милостива или жестока — все равно, жизнь ему постыла, тоска его одолела, глубокая тоска, как ястреб, впилась когтями в сердце и рвала его.
Тяжело ему было в этом ярме, скучно, тесно и душно, как стреноженному коню в загородке, как собаке на цепи, как… да и не рассказать, как тяжело!
Он был подобен молодому могучему дереву, сломленному бурей. Обреченное на гибель, засыхает оно посреди цветущего здорового сада.
Вокруг жили люди, была деревня, жизнь кипела обычным глубинным кипением, катилась, как быстрые воды, разливалась все тем же буйным, живым потоком. Липцы жили привычной, повседневной жизнью. У Вахников справили крестины, у Клембов — сговор, хотя и без музыки, но повеселились, насколько можно в посту. Потом умер кто-то, — кажется, тот самый Бартек, которого осенью зятек так избил, что он с тех пор все хирел, кряхтел и, наконец, отправился к праотцу Аврааму. Потом Ягустинка опять подала в суд на своих детей, которые ее выгнали и не хотели кормить. Происходили и другие события, почти в каждой избе случалось что-нибудь новое, так что людям было о чем потолковать, над чем посмеяться или повздыхать. В долгие зимние вечера в избах собирались женщины прясть — и сколько там смеху было, боже, сколько забав, разговоров, шуток — даже на улицах слышен был веселый шум.